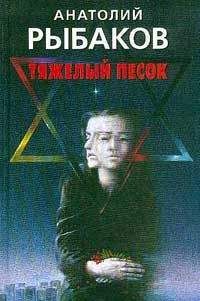— Вы, — говорит, — посмотрите на свои каракули, в них можно разобраться? Откуда вы взяли эти цифры? С потолка? И откуда такие названия — ведь вы себя считаете обувщиком!
Опять не хочу загружать вас деталями, но в каждом деле есть особенности терминологии, иногда одни и те же вещи называются по-разному, иногда разные вещи называются одинаково, эти тонкости терминологии Броневский, как человек нерусский и к тому же чересчур самоуверенный, не знал.
Я ему не возражаю, все просмотрел, все уяснил, вернулся к себе и говорю Бойцову:
— Нашей вины нет, можете быть спокойны. Давайте созовем совещание, пригласим представителя из Москвы и разберемся.
Бойцов хотя и был, как я говорил, человек несколько усталый, но вместе с тем опытный и в нужную минуту решительный. Дать меня угробить — значит подорвать престиж нашего учреждения, никакому руководителю этого не хочется. А может быть, вообще не хотел меня гробить, его самого достаточно трепали. Во всяком случае, он со мной согласился.
Приезжает представитель из Москвы, созываем совещание, приглашаем мастеров с фабрики, из районов, слово дают Броневскому: мол, какие у вас претензии… И он произносит разухабистую речь, обвиняет меня в невежестве, называет термины, которых не знает, и, желая подольститься к рабочим, говорит: вот в этом кабинете (совещание шло в кабинете Бойцова) на полу ковер, а на фабрике часто портится душ, — в общем, бьет не только по мне, но и по руководству и оглядывается на Каменеву, стакнулся со старой склочницей, она его вдохновила на «разоблачения».
Вы, надеюсь, понимаете, какой блин я из него сделал. Представитель из Москвы подтвердил, что ничего я сам не придумал, инструкцию дала Москва. Мастера высмеяли Броневского за то, что он не знает терминологии. Каменева сразу сориентировалась и объявила, что не позволит коммерсантам из Варшавы порочить советских специалистов. В общем, ничего хорошего ему эта интрига не принесла. Дальнейшей его судьбы не знаю. После совещания я подал заявление об увольнении ввиду возвращения в родной город, моя фабрика прислала запрос с просьбой вернуть меня обратно.
Бойцов не хотел меня отпускать.
— Чем мы вас обидели?
— Ничем, — отвечаю, — но так сложились семейные обстоятельства, надо возвращаться домой.
— Ну что ж, — говорит, — насильно мил не будешь. Я вашей работой доволен. И вы не поминайте нас лихом.
Искренне сказал, трогательно.
И я ответил:
— И я вас, Василий Алексеевич, благодарю за доброе отношение и всегда буду вас помнить.
Так хорошо и душевно мы с ним простились. И это приятно: каждая работа — часть твоей жизни, и расставаться надо по-человечески.
В марте сорок первого года я вернулся в родной город, в родной дом, на родную фабрику.
Что вам сказать? Дым отечества… Все, как говорится, течет, все изменяется, уходят одни люди, приходят другие, и все же если ты возвращаешься в город, где родился и вырос, он для тебя такой же, какой и был: дуют те же ветры, идут дожди — такие же самые дожди, и солнце светит — солнце твоего детства.
Вы понимаете, как были рады мне отец и мать. Но, с другой стороны, неудача, крушение любви, неоправданные надежды… Отец — ни слова, никаких расспросов, мужское дело: сошелся — разошелся… Мать пыталась держаться так же и все же не утерпела и заговорила об этой вертихвостке.
Я мягко, но решительно прервал:
— Ее не было, нет и не будет.
Больше мы о Соне никогда не говорили.
После Сони, после Броневского, после передряг на старой работе я с особенной радостью и удовольствием ощутил устойчивость и спокойствие нашего дома. Отцу — пятьдесят один, матери — сорок восемь. Одной морщинкой больше, одной меньше, красивого человека и морщины украшают. Они прожили вместе тридцать лет, эти тридцать лет не были, как один день, было много дней, ясных и ненастных, ненастных больше. Видели вы одинокое дерево на прибрежном утесе? Сквозь камни пробилось оно корнями к земле и стоит несокрушимое для бури, для шторма, для свирепых и беспощадных волн. Таким могучим деревом и была любовь моих родителей. Она была опорой и для них и для тех, кто возле них.
Вечер, все дома, мама гладит, раздувает утюг, широко раскачивает его, утюг тяжелый. Помните, были такие большие высокие утюги, в них тлел уголь, в зубчатых прорезях мелькали красненькие огоньки? Мама слюнявит палец, дотрагивается до утюга, горяч ли, набирает в рот воды, брызжет на белье, и оно, чуть влажное, прижатое горячим утюгом, отдает паром и уютным, свежим домашним запахом… Между прочим, будучи детьми, мы тоже любили набирать в рот воду и брызгать на белье; если мама не слишком торопилась и была в хорошем настроении, она нам это разрешала, оказывала такую милость…
Отец раскладывает на столе контурную карту, зовет Олю и Игорька, те уже бегут с цветными карандашами…
В прошлом году Люба хотела забрать Игоря. Но отец и мать сказали:
— Будущей осенью ему в школу, тогда заберете, а пока пусть поживет у нас, воздух здесь получше, чем в Ленинграде.
На том решили, и, значит, Игорь доживал у нас последнее лето. Что вам о нем сказать? Белобрысый, как его отец… Люба тоже была блондинка, но темная, а Володя с севера, Игорь в него, коренастенький, здоровый бутуз. Но Володя был выдержанный парень, а Игорь… Это что-то невообразимое, точь-в-точь его дядя Генрих, мой дорогой братец; что он был в свое время, как от него стонала улица, я вам рассказывал. Таким рос и Игорь. И дрался он точно, как Генрих: налетал на противника и руками и ногами, ошеломлял таким наскоком, типично хулиганская манера драться, и всего ведь каких-то семь лет от роду. Все деревья были его, все крыши, сараи… Разбитый нос, синяки, ободранные коленки, расцарапанные локти… Но, между прочим, мальчик был довольно ласковый, когда я читал ему, он прислонялся ко мне и внимательно слушал. И знаете, в нем было известное благородство, не обижал Олю, та уже ходила в третий класс, тихая, застенчивая девочка, ей пришлось преодолеть в доме отчужденность, даже враждебность, и, кроме того, на улице между детьми секретов не бывает, что знают взрослые, то знают и дети: и чья она дочь, и кто ее настоящий отец, и кто не настоящий, — словом, все это, перепутанное в детском сознании и помноженное на наивную детскую беспощадность, предъявлялось Оле, всем здесь чужой, и маленький Игорек, семь лет, что он понимает, ему бы вместе с другими дразнить Олю, — нет, чуть что, лез драться, защищал ее, не давал в обиду.
И мы хорошо относились к Оле, мама со временем тоже примирилась, потому что с этой девочкой незримо витала в доме тень так нелепо погибшего Левы. О нем, о Леве, мало говорили, но много думали, и когда мать вдруг вздохнет, а отец задумается, — это Лева…
Значит, раскладывает папа карту… Контурная карта — это, скажу вам, замечательное изобретение, когда хочешь приучить детей к географии. Вы же помните, на контурной карте только голубые ниточки, кружочки и больше ничего. Надо написать, что это Волга, тут Ока, там Кама, нужно разрисовать коричневым горы, зеленым низменности… Но не это было главным. Любое путешествие мы обычно начинали с нашего города. Искали на Днепре, где должен быть Киев, отмеряли от него нужное расстояние на север, определяли, где быть Чернигову, от него двигались на северо-восток и ставили крестик — наш город.
— А теперь, — говорил отец, — попутного ветра нам в наших странствиях.
Мы пересекали с ним пески Каракумы, взбирались на Памир, шли назад, добирались до Каспийского моря, каждый выбирал свой маршрут, и каждый, конечно, хотел перещеголять другого… Счастливые вечера… Так раньше отец занимался с нами, старшими, потом с Диной и Сашей, теперь с Олей и Игорем…
Я слушаю по радио репортаж Вадима Синявского с футбольного матча. Как вы понимаете, сам я в футбол уже не играл, но болельщиком остался до сих пор.
Саша читает. Хворобы его и болячки прошли, стройный мальчик и все же хрупкий, нежный, не изнеженный, а именно нежный, сострадательный, доверчивый. Сказать по совести, я за него беспокоился: время суровое, как тогда говорили, строгое, требовало от человека силы, иногда и гибкости; мне казалось, что Саша не сумеет приспособиться к жизни, как в свое время долго не мог приспособиться наш отец. А мои родители, представьте, были спокойны за Сашу. То есть что значит спокойны? Родители никогда не бывают спокойны за своих детей, но они беспокоились за Генриха — военный летчик! А Саша?.. Конечно, как всякому мягкому по натуре парню, ему будет трудно, но он дома, при родителях, а когда вырастет, тогда будет видно. Воспитав семерых детей, они приучились быть спокойными за них. Ну а я беспокоился за Сашу.
И так почти каждый вечер… Иногда мама шила. Помню, вскоре после моего возвращения из Калинина она перешивала Дине свое голубое крепдешиновое платье. С мануфактурой тогда было трудно, да и бюджет наш, сами понимаете… А Дина уже кончала школу, собиралась осенью в Киевскую консерваторию, с ее голосом и внешностью ее ожидало великое будущее. Но внешность и возраст требуют своего. «Мне не в чем выйти, не в чем ходить, стыдно на людях показаться…» Эти фразочки, какими девушки что-нибудь выцыганивают у своих родителей, я думаю, вам известны.