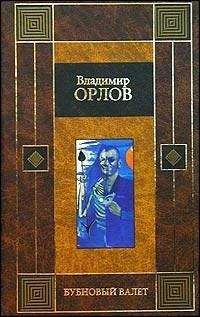– А это кто? – ткнул я пальцем на пышноволосую красавицу в динамовской футболке (третья фотография), положившую руку на плечо объявленной матери Нинули.
– А ты не узнаешь? – удивилась Нинуля. – Это Зинаида. Они с матерью лучшие подруги. Работали в Коминтерне с немцами. Зинаида так знает немецкий, что ахнешь… Потому-то она и провела столько лет… в логове зверя… Ой! Я тебе ничего не сказала!.. Я тебе ничего не говорила!..
Она замахала на меня руками, как на не предвиденное ею и неприятное видение, чуть не рухнула, но ухватилась за солонку, словно та могла удержать ее, то есть так нельзя сказать, она вцепилась в нее рукой и взглядом, но медитации, видимо, уже не суждено было случиться. Следующие два часа я был более занят не чтением полос (хотя и вычитывал их, что же делать?), а ухаживанием за Нинулей. Перемена в ее состоянии оказалась для меня неожиданной, я чуть было не вызвал врача из медпункта типографии, но не стал, довел бесчувственную совершенно Нинулю до их с Зинаидой кабинета, сдвинул стулья, уложил на них Нинулю, подсунув ей под голову не самые жесткие папки и книги. Кого-нибудь из других отделов и уж тем более уборщиц я не призвал, опасаясь конфузов. Бросить я ее не мог, а когда, по моим расчетам, до сигнала остался час, я внятно произнес ей на ухо: “Через час сигнал. Будут развозить. Встанешь!” На секунду глаза ее открылись, она прошептала: “Через час…” И ровно через час она очнулась, солонку поставила на стол, вспомнив о важном, схватила сумочку и отправила в рот беленькую таблетку: “Все, все, Василий, я в норме. Зинаиде ни слова!”
В коридоре шестого этажа (я повел Нинулю спуститься к автомобилю) метрах в двадцати впереди себя я увидел К. В., Кирилла Валентиновича. Слава Богу, он не обернулся и ни о чем нас не спросил.
А мне в голову пришло: “Если для Лолиты востребовался Пантелеев, то для Наташи Ростовой – К. В. оказался Андреем Болконским, что ли?” И это Андрей Болконский учил меня: “Циником надо быть, Куделин, циником…”?
***
Взгляд на меня Зинаиды Евстафиевны был мрачный, Может, и гнев утаивала она в себе.
– Что это вы, Василий, учудили вчера с Нинулей?
– А что мы учудили? – удивился я.
– Ну хорошо, если не учудили, то что она тебе такое нарассказывала?
– Она просила не говорить.
– Говори. Она небось не обидится.
– Про отца. Про мать.
– И про меня?
– И про вас.
– И фотографии показывала?
– Мутные. Три.
– Ты не расстраивайся, что мне докладываешь. Ты ей слова молчать не давал. А для меня важно ее здоровье. И она передо мной уже плакалась. Да я и сама знала, что она наболтает… А таблетки она глотала?
– А я откуда должен был догадываться про таблетки? – теперь уже проявил недовольство я.
– Ладно, ладно, не ворчи, – сказала Зинаида. – Тут я виновата. И это мне с ней, а не с тобой надо будет проводить разговор.
– Она все сочинила?
– Что все?
– Про отца. Про мать. Про вас.
– Тебе все знать не обязательно. Особенно про меня.
– Я про вас и не спрашиваю. Я спрашиваю только: сочиняла ли она мне или нет.
– Кое-что, видимо, и сочинила. Она с воображением. Но она дочь Деснина, если это для тебя важно. Он, наверное, у нее был и белым офицером, и дворянином, этот босяк-то… Его же назвать отцом можно с допущениями. Его будущий ребенок мог и не интересовать… Хотя Елена, мать Нины, ему и открыла… Я не была в том году в Москве, все это ведомо мне со слов Фени, Лениной сестры… Лена его любила… Они не были расписаны, но и ее расстреляли…
– А откуда – Нина Иосифовна Белугина?
– И это тебе не обязательно знать.
– Ее воспитывала, – помолчав, все же спросил я, – тетка?
– Если бы тетка, – вздохнула Зинаида Евстафиевна. – Если бы тетка или кто из родных, у нее не было бы ни шрамов на лице, ни скрюченной руки и всяческих болячек! А я смогла встретиться с ней, когда ей уже исполнилось десять…
– Зачем этому Деснину, в его-то случае, была нужна Золотая Звезда? – На Зинаиду Евстафиевну я не смотрел, ее ни о чем не спрашивал, а как бы размышлял вслух.
– А я почем знаю! – воскликнула Зинаида Евстафиевна. – И представить себе не могу. Меня-то и медали не интересовали!
Она будто бы спохватилась, словно “медалями” этими приоткрыла мне нечто запретное.
– Все, Василий! – сказала она строго. – С Нинулей более никаких разговоров о Деснине не веди… А если увидишь таблетки… Нет, ничего… Это уже мои заботы! И меня от расспросов уволь. Про немецкий язык, к примеру… Всякие небылицы люди любят распускать… Все, Василий!
В своей коморке я долго смотрел на солонку. Башкатова все еще держали в отдалении космические дела, говорить о солонке было не с кем. Впрочем, о вчерашних общениях с солонкой Нинули я ему, естественно, рассказывать не стал бы. Не звонил я пока Алферову с Городничим, этим – сам не знаю почему, может, ожидал появления в газете нашей с Марьиным статьи, а если они откопали бы что-то путное, сами разыскали бы меня… А не Нинуля ли упрятывала в солонку крестик и костяной талисман? Не составные ли это некоей ее житейской игры? Мне захотелось подарить Нинуле солонку. Но почему подарить? Из жалости к ней? Оделить человека с изуродованным детством игрушкой? В этом случилась бы явная неловкость. Или просто сказать ей: “Возьми солонку, она мне не нужна, а тебе, может, и пригодится…” Но тогда вышло бы чуть ли не расчетливое вынуждение Нинули продолжить разговор о человеке с профилем Наполеона, и я нарушил бы обещание, данное Зинаиде, а Нинуле возможно бы и навредил. Не исключено, что эта фарфоровая птица способна притягивать несчастья и неудачи. (Меня они уже посетили, что ли? Следопыт Башкатов что-то не просит передать ему солонку в собственность, соображение об этом пришло ко мне впервые!) Ладно, решил я, пусть солонка стоит здесь, коли в ней опять возникнут крестик и талисман, придется деликатно поинтересоваться у Нинули, не ее ли они… И вообще, что будет, то будет…
И все же несколько дней я не мог освободиться от мыслей о Деснине. А не осталось ли, подумал я, свидетельства о личности Деснина и его пребывании в нашей редакции, в самой газете? Ведь публиковались же заметки, соавтором которых назывался Деснин. Может, проскочила фотография его с орденами. В библиотеке я пролистал подшивки газеты предвоенных лет (сорок первый я уже не трогал). Ничего. Фамилию Деснина я не увидел. Как, впрочем, не увидел и иные известные мне фамилии. Многие номера газеты из подшивок были изъяты… (Позже в разговоре с одним из ветеранов “Огонька” я услышал о курьезе. Огоньковец видел киножурнал “Новости дня”, был такой, еженедельник, заменял ТВ. В выпуске его показывали вручение Золотых Звезд. И на экране дедушка Калинин пожимал, среди прочих, руку герою Деснину, фамилия не произносилась. “Удалой был красавец!” Чьи-то цензорские глаза просмотрели врага и мошенника. Может, пленка сохранилась и теперь лежит в Белых Столбах. А может, спохватились и сожгли ее…) Алексей Федорович Деснин был изъят и вырублен. Ребенок (скорее всего – и не единственный) получил чужие отчество и фамилию… Что меня так занимал в те дни этот Деснин? Не знаю… Изъятый и вырубленный, он все же оказался персонажем истории. Пусть прохвост и мошенник, а позволил себе – в те времена! – учудить такое!..
Конечно, я не мог не думать о Вике и общении с ней. На всякий случай, так я объяснил себе – “на всякий случай”, я звонил в справочную на площадь Борьбы и наконец узнал, что Юлия Ивановна Цыганкова из больницы благополучно выписана. Ну и все. Кончено, вышло постановление. И с Викой было кончено. Как-то я позвонил поздно вечером, ночью даже, ей домой (номер-то телефона мне предложили), услышал долгие гудки и решил, что Виктория Ивановна Пантелеева убыла (и от меня, в частности) в Лондон, ведь она была не только женой дипломата, но и служила (бизнес-баба) в торгпредстве. Покончено-то покончено, но я не мог забыть прикосновений рук Вики и то, что Вика вызывала во мне желание (чего почти не случалось во время наших студенческих и постстуденческих ухажерств). Я уже вытаскивал как-то из сыростей собственного подполья признание (самому себе) в том, что и Валерия Борисовна, как женщина в разгаре бабьего лета, а не как мать двух сестриц, была мне, мягко сказать, не противна. “Приколдован ты, Василий, к нашему семейству…” Глупость! Не верил я во всяческие присушивания.
Да и какая корысть была приколдовывать именно меня к верхне-светскому семейству? Но хоть бы и приколдован. Теперь-то все решалось во мне, в моем выборе, в моей свободе – вести себя так или иначе. А выходило, что я, на языке нашего двора, – несомненный бабник. Или кобель. Всех возжелал. Со всеми готов блудить… Слова мне являлись для самых оскорбительных укоров, и с ними сам же я принимался спорить. “Это же все в помыслах, а мало ли у кого какие помыслы, миру не открытые…” И понимал: брожение соков (из какого века прибыло ко мне это выражение?) вызвано биологией, простейшей потребностью (а может, и обязанностью) организма. Целибат назначить себе я был не в состоянии. Поддерживать аскезу гонянием мяча до потери сил, гимнастикой или маханием двухпудовых гирь не получалось. Исходя из соображений здравого смысла (соображения эти, правда, виделись мне пошлейшими), следовало мне завести подругу. Или подруг. Именно для взаимных удовольствий и более ни для чего. Без всяких претензий с ее и моей стороны. И без всяких житейских обязательств. Я как-то признавался, что до знакомства с Викой и после разрыва с ней женскими ласками обделен не был. Но шустрым и удачливым ходоком я себя никогда не проявлял, натура не та. Выбирали и увлекали меня. А я поддавался. При этом убеждал себя, что это временно и именно по необходимости природы, что я никому не приношу ущерба и никого не ввожу в заблуждение. А высокое, настоящее, на всю жизнь, случится когда-нибудь, но уж непременно.