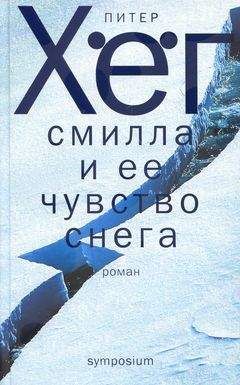Следующее судно — это черный, высокий корпус. Алюминиевый трап установлен в середине судна, но все кажется пустынным и заброшенным. Судно называется «Кронос». Оно, наверное, около 125 метров в длину.
Мы возвращаемся к машине.
— Может быть, надо было подняться на борт, — говорит он.
Это мне надо принять решение. На мгновение я чувствую искушение. Потом возникает страх и воспоминание о горящем силуэте «Северного сияния» на фоне Исландс Брюгге. Я качаю головой. Сейчас, именно сейчас, жизнь представляет для меня особенную ценность.
Мы звоним Ландеру из телефонной будки. Он все еще в своем кабинете.
— А если судно называется «Кронос»? — говорю я.
Он отходит от телефона и снова возвращается. Проходит какое-то время, пока он листает страницы.
— В «Регистре судов Ллойда» их пять: танкер для перевозки химических веществ, приписанный к Фредерикстаду, песчаная драга в Оденсе, буксирное судно в Гданьске и два, относящихся к группе «генеральный груз», одно в Пирее, а другое в Панаме.
— Два последних.
— У греческого водоизмещение 1 200 тонн, у второго 4 000 тонн. Я протягиваю механику шариковую ручку. Он качает головой.
— С цифрами у меня т-тоже проблемы, — шепчет он.
— Есть фотография?
— У Ллойда нет. Но есть несколько цифр. 127 метров в длину, построено в Гамбурге в 57-м году. Ледового класса.
— Владельцы?
Он снова отходит от телефона. Я смотрю на механика. Его лицо в темноте, иногда фары машин высвечивают его — белое, озабоченное, чувственное. И под чувственностью нечто непреклонное.
— В «Морском справочнике Ллойда» судовая компания называется «Плеяда», зарегистрирована в Панаме. Но имя по виду датское. Какая-то Катя Клаусен. Никогда о ней не слыхал.
— А я слыхала, — говорю я. — «Кронос» — это то, что мы ищем, Ландер.
Мы сидим на кровати, прислонившись спиной к стене. Шрамы вокруг его запястий и лодыжек в этом освещении кажутся черными, металлическими браслетами на фоне его белого обнаженного тела.
— Как ты думаешь, Смилла, мы сами все определяем в своей жизни?
— Только детали, — говорю я. — Серьезные веши происходят сами по себе.
Звонит телефон.
Он снимает скотч и выслушивает короткое сообщение. Потом кладет трубку.
— Может быть, тебе стоит поискать туфли на высоком каблуке. Бирго хочет сегодня вечером встретиться с нами.
— Где?
Он загадочно улыбается.
— В сомнительном месте, Смилла. Но оденься красиво.
Он несет меня на руках вверх по лестнице. Я пытаюсь вырваться из его объятий, и мы приглушенно смеемся, чтобы не привлечь к себе внимание. В Кваанааке, в моем детстве, жених в ночь после свадьбы нес невесту к саням, и они уезжали, а вслед за ними с гиканьем гнались гости. Иногда и сейчас так делают. Тот час, который мне теперь предстоит провести в одиночестве, чтобы переодеться, мне заранее кажется долгим. Мне хочется попросить его остаться, чтобы все время можно было его видеть. Он еще не вполне утвердился в моем мире. Его грубоватая мягкость, его массивность и неуклюжая вежливость все еще как сон наяву. Но всего лишь как сон. Я вытягиваюсь, хватаюсь за дверной косяк и сопротивляюсь, когда он хочет опустить меня на пол. Я провожу пальцами вдоль верхней петли. Два кусочка скотча оторваны, и краешки щекочут кончики моих пальцев.
Я беру его руки и провожу ими по скотчу. Его лицо становится очень серьезным. Он приникает губами к моему уху.
— Тихо уходим…
Я качаю головой. Мое жилье неприкосновенно. Можно что угодно отнять у меня. Но тихий угол — без него мне никак не обойтись.
Я берусь за ручку двери. Она не заперта. Я вхожу. Ему приходится идти за мной. Но он не в восторге от этого.
В квартире холодно. Оттого что я всегда закрываю краны на батареях, когда ухожу. Мне жалко энергии. Я заделываю окна. Я закрываю двери. Это еще со времен Туле. Когда было разумное понимание того, как дорог керосин и как его мало.
И поэтому я, само собой разумеется, уходя, везде гашу свет. И вообще жгу его как можно меньше. А тут из комнаты в прихожую проникает свет, которого я не зажигала.
Вращающийся стул отодвинут от стола к окну. На спинке его висит пальто с очень широкими плечами. Прямо на плечах покоится шляпа. На подоконнике — пара черных, начищенных ботинок.
Мне кажется, что мы вошли очень тихо. И все же ботинки убирают с подоконника, и стул медленно поворачивается к нам.
— Добрый вечер, фрекен Смилла, — говорит сидящий человек, — и господин Фойл.
Это Раун.
Лицо у него пепельно-серое от усталости, и на щеках видна щетина, которая, как мне кажется, не понравилась бы начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Говорит он невнятно, как человек, который долго не спал.
— Вы знаете, каково первое условие для того, чтобы сделать карьеру в Министерстве Юстиции? — спрашивает он.
Я оглядываюсь по сторонам. Но похоже, что он один.
— Первое условие — это лояльность. Высокий средний балл по всем экзаменам тоже необходим. И желание внести необыкновенно большой вклад в дело. Но в конечном итоге решающим становится, лоялен ли ты. Здравый смысл, напротив, совсем необязателен. И более того, может служить препятствием.
Я опускаюсь на стул. Механик прислоняется к письменному столу.
— В какой-то момент необходимо было сделать выбор. Одни стали помощниками судей, а потом и судьями. Они часто обладали врожденной верой в справедливость, в систему. Верой в возможность излечения и восстановления. Другие, такие, как я, стали помощниками начальника полиции, полицейскими следователями, а потом и сотрудниками Государственной прокуратуры. Со временем, возможно, даже следователями Государственной прокуратуры. Мы были недоверчивы. Мы считали, что заявление, признание, событие редко являются тем, чем они кажутся на первый взгляд. Это недоверие было для нас прекрасным орудием. Пока объектом его не становилась наша работа или само министерство. Ни при каких обстоятельствах чиновник обвинительной инстанции не должен сомневаться в том, что он прав. Прессу с любым бестактным вопросом ему следует отсылать к высшим инстанциям. Любая опубликованная статья, содержащая хотя бы намек на критику — да, собственно говоря, всякая статья — будет истолкована как проявление нелояльности по отношению к министерству. В некотором смысле в Министерстве юстиции не существуешь более как индивид. Большинство подчиняются этому требованию. Я могу вам сообщить, что многие в глубине души считают благом то, что государство освобождает их от необходимости быть самостоятельными людьми. От тех, кто не может вписаться в систему, избавляются на более раннем этапе.
Я встречала подобное во время длинных переходов. Когда человек вконец измучен, он неожиданно в глубине себя обнаруживает бездну веселого цинизма.
— И все же иногда случается, что какая-нибудь темная личность остается в системе. Человек, которому удается скрывать свою подлинную сущность до тех пор, пока не становится слишком поздно. Пока он не сделает себя настолько незаменимым, что министерство с трудом может отказаться от него. Такой человек никогда не достигнет вершины. Но он может достичь известных высот. Может даже стать следователем Государственной прокуратуры. К этому моменту он становится слишком старым — и, возможно, в своей области слишком компетентным — чтобы без него можно было обойтись. Но он причиняет чересчур сильное беспокойство, чтобы можно было продвигать его наверх. Такой человек всегда будет камешком в ботинке министерства. Он не причиняет особенно болезненных ощущений, но он раздражает. Такого человека со временем попытаются поместить в какую-нибудь нишу. Где можно использовать его упорство и память, но где его держат подальше от общественности. Возможно, он, в конце концов, начнет выполнять особые поручения. Например, расследования, сама природа которых такова, что ему приходится держаться в тени. К нему может, в конце концов, попасть жалоба на ход следствия по делу о смерти маленького мальчика. Если к тому же окажется, что в этом деле уже имеется какая-то докладная записка.
Он не смотрит в нашу сторону. Он говорит, глядя прямо перед собой.
— Бывает так, что сверху спускают указание, что того, кто жалуется, надо успокоить. «Надавить на него», как говорят на Слотсхольмене. В таких делах накоплен определенный опыт. Но на сей раз дело сложнее. Смерть ребенка. Фотографии его следов на крыше. Это легко может стать вопросом совести. И я высказываю предположение, что в смерти мальчика есть что-то непонятное. Но я не получаю никакой поддержки, ни от полиции, ни из министерства.
Он с трудом поднимается со стула.
— Потом происходит этот инцидент с пожаром. К сожалению, это тоже как-то связано с Гренландией. И погибший господин назван в вышеупомянутой докладной записке. Вчера утром у меня забрали дело. «Вследствие сложного характера» и так далее.