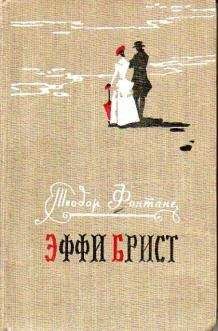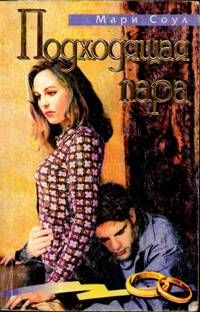Марселла вдруг положила ладонь на мою руку. Прикосновение должно было успокоить меня, но на самом деле ее сила только выбила меня из равновесия. Что я вообще здесь делаю?
— Почему моя дочь сбежала?! — выпалила я, думая, что у цыганки может быть ответ.
— А моя? Они юны и нахальны. Думают, что могут делать, что им заблагорассудится, без всяких последствий. И теперь за это расплачиваются.
— Расплачиваются?
— Вина. Твоя младшая пропала, и они в этом виноваты.
— Ты знаешь про Эффи?
— Конечно. Твоя дочь здесь.
— Что?! — Я вскочила на ноги. — Как?! Где?! Где она?!
Марселла встала, разведя руками в воздухе:
— Твоя старшая дочь Луэлла здесь.
Я вцепилась в стол. В комнате стало нестерпимо жарко и тесно. Я проковыляла к двери и открыла ее как раз в тот момент, когда моя старшая дочь поставила ногу на нижнюю ступеньку.
Кровь отхлынула у меня от лица.
— Мама? — спросила она, будто я была каким-то незнакомым предметом, а не нее матерью.
Я стояла оглушенная, совершенно не готовая к этому.
Она отступила, когда я двинулась вперед и вышла из фургона. Луэлла совсем не изменилась, только переоделась в яркое цыганское платье, да волосы выгорели на солнце, но все же в лице ее появилось что-то чужое. Я думала, что она подожмет губы и встретит меня открытым неповиновением, но она просто стояла и смотрела на меня. Смотрела как человек, которого предали, против которого восстал весь мир. Как будто дело обстояло именно так, а не наоборот. Потом она опустила голову и заплакала.
Вокруг клубился дым, ветер пробирался под пальто, кожаные туфли давно промокли. Все разговоры, которые я вела с Луэллой в своей голове, все, что собиралась ей сказать, — все это исчезло. Исчезло и желание дотянуться до нее и схватить. Слишком уж велика была моя злость: она была здесь, чуть ли не на собственном дворе, но не соизволила зайти домой! Никакие извинения и объяснения не помогли бы ей.
— Она с нами только потому, что не смогла вернуться домой без сестры, — проговорила мне в спину Марселла.
Я с большим трудом сдерживалась, чтобы не схватить Луэллу за плечи.
— Откуда ты знаешь про Эффи? — Я заговорила тем же командным голосом, каким говорила с ней в детстве.
Она посмотрела на меня, и мы обе поняли, что командовать ею я больше не могу.
— Фредди прочитал о ней в газете и рассказал нам. Он сказал, что это мы виноваты и что простить нас нельзя. Они ищут ее, мама! — Как будто ее торопливые, слезные слова могли что-то исправить. — Фредди, Сидни, Иов. Они не ушли из-за Эффи. Сказали, что останутся тут на всю зиму, но ее найдут.
«Какая разница! — чуть не закричала я. — Это они во всем виноваты! Ты во всем виновата!» Я ненавидела этих людей. Ненавидела свою старшую дочь. Неблагодарная! Эгоистичная? Ненавижу?
Всхлипы Луэллы перешли в икоту. Она вытерла щеку тыльной стороной ладони:
— Я не хотела, чтобы Эффи ушла за мной. Я и подумать не могла… Я сказала ей, что напишу, как только смогу. Я не знаю, почему она не стала ждать.
Моя ненависть тут же испарилась. Это была моя вина! Я солгала Эффи. Я заставила ее увериться, что сестра просто бросила ее.
В небе пролетела, перекликаясь, стая гусей. Я посмотрела на поле, поросшее сухой и безжизненной бурой травой.
— Она не стала ждать, потому что я не показала ей твое письмо.
— Почему? — очень тихо спросила Луэлла.
— Я не знаю. — Я действительно ничего уже не знала. Я чувствовала себя совсем слабой, у меня кружилась голова. Я хотела обнять дочь, но передо мной стояла совсем незнакомая молодая женщина. Из дома ушла девочка, а теперь это была женщина — красивая, отстраненная, чужая.
Меня захлестнула волна паники:
— Пойдем домой!
Луэлла коснулась моей руки. Ее темная, обветренная ладонь погладила мою гладкую, безжизненную перчатку.
— Не могу! Не могу смотреть в глаза папе. Не могу видеть пустую комнату Эффи. Что я могу сделать? — спросила она, чуть не плача. — Я ничего не могу сделать.
Она была права. Она ничего не могла сделать, чтобы вернуть Эффи, живую или мертвую. Никто из нас ничего не мог сделать.
Я посмотрела на хлипкие фургоны, вмерзшие колесами в землю, на жесткое поле, на холодное небо:
— Я этого не понимаю.
— Знаю.
Я видела сочувствие на лице дочери, но я слишком многого теперь не понимала в ней. Я отвернулась, беспомощная, измученная. Мне нужно было домой, нужно было лечь.
— Мама? — На мгновение она снова стала ребенком, но я не остановилась.
Она знала, где меня искать. И я теперь знала, где она, пусть и не одобряла ее образа жизни. По крайней мере, она в безопасности. В фургоне тепло. Там есть еда и горячий чай. Может быть, больше ей ничего и не нужно.
Ветки хрустели под ногами, пела какая-то птица, будто тянула одну-единственную ноту. Цыганский табор затих у меня за спиной — мой приход заставил умолкнуть детей и собак. Луэлла не побежала за мной, как я надеялась, и я, пробравшись между деревьев, спустилась по склону холма и вернулась через поле в свой пустой и тихий дом.
20
Мэйбл
Мы с мамой перебрались на Уорс-стрит в пятиэтажный дом с винтовой лестницей, похожей на штопор. У нас была одна комнатка на пятом этаже и роскошная общая ванная с горячей водой. Единственное окно нашей комнаты с побеленными стенами выходило на улицу, а мебели не было совсем. Мы с мамой спали на одеялах, подложив под голову нижние юбки. Мама говорила, что это временно, пока мы не сможем позволить себе что-нибудь получше.
Август выдался таким жарким, что большую часть дня я сидела у окна и пыталась хоть немного вдохнуть свежего воздуха, глядя на шляпы прохожих, повозки и автомобили, бесконечным потоком двигавшиеся внизу. Мне казалось, что у всех этих людей есть срочные дела. Я не знала, долго ли мама собирается держать меня взаперти. Гнев ее поутих, но я понимала, что запереть меня в комнате и убивать скукой — это и есть наказание.
Первые несколько недель я высматривала на улице Ренцо, все еще надеясь, что он придет. Я узнаю его по развязной ленивой походке. Окликну, он посмотрит наверх и улыбнется, уверенный, что я его ждала. Он поднимется, заключит меня в объятия, попросит прощения и скажет, что мы будем вместе, несмотря ни на что.
Но он не пришел. Я пыталась сердиться, но чувствовала только тоску, такую же глубокую и гнетущую, как после ухода отца. Я жалела, что у меня не осталось ни одной вещи, которая напоминала бы мне о Ренцо, ничего, что хранило бы его запах. Хотя бы тот чертов носок! Но ничего не было. И мы с мамой тоже остались ни с чем.
Я думала, что тетка Мария соскучится по нам и простит меня, но она тоже не пришла. Жестоко с ее стороны было наказывать маму за мой проступок, и я поклялась помирить их.
Как-то вечером я сидела на полу, ела колбасу и смотрела, как мама расправляет платье и вешает его на дверь. Она только что вышла из ванной, и длинные влажные волосы рассыпались по спине. Очертания ее стройной фигуры просвечивали через тонкую ткань ночной рубашки. Я вспомнила, как она вся перепачкалась в грязи в тот день, когда потеряла последнего ребенка. Теперь она сильно исхудала.
— Я буду работать вместо тебя, — сказала я. — Мне уже удастся выправить все бумаги, а ты немного отдохнешь.
— Только через мой труп, ясно? Ты не будешь работать в этом богом проклятом месте. — Она уперла руки в бока и посмотрела на меня решительно, как смотрела на папу. — Я найду что-нибудь получше. А пока буду ходить на фабрику, а ты изволь учиться. Это из-за скуки ты во все это впуталась. Я не знала, что Мария оставляет тебя одну. Пока я зарабатываю достаточно, чтобы платить за еду и комнату, ты будешь ходить в школу.
Я уставилась на нее, не донеся колбасу до рта. Никто из детей Кашоли не ходил в школу.
— Но мы не можем этого себе позволить.
Мама отжала волосы, щедро оросив пол каплями воды — словно семенами моего будущего.