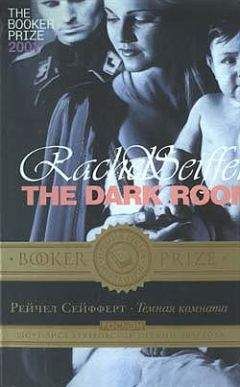– Это вы, на фотографии?
– Да. В день нашей свадьбы. Мы были далеко не молоды, когда поженились, видите?
– Но и не стары.
– Да ладно уж, чего там, конечно, стары. Нам повезло, что мы друг друга нашли.
Старик улыбается. Жена тоже улыбается, когда он пересказывает ей разговор. Говорит ему что-то, глядя на Миху.
– Елена говорит, что это единственная фотография, где мы вместе. И это правда.
Она снова обращается к мужу, и тот кивает.
– Мы знакомы всю жизнь, и всего одна фотография.
– Пожалуйста, скажите вашей жене, что перед отъездом я вас сфотографирую. И пришлю ей из Германии снимок.
Колесник переводит его слова, и Елена, покраснев, радостно кивает. Миха тоже обрадован.
За едой он рассматривает Колесника. Руки у того большие и тяжелые. Мощные кости, грубая кожа; скрюченные пальцы с выступающими костяшками, широкие плоские ногти. Они, эти руки, медленно движутся от тарелки ко рту, тяжело лежат на столе, когда он жует. Взглянув ему в лицо, Миха отводит глаза. Старик тоже на него смотрит: наблюдает за тем, как он наблюдает.
После еды Миха и Колесник пьют на кухне водку. Старик смотрит, как Миха достает магнитофон, вставляет батарейки, настраивает качество записи. Миха писал ему об этом, объяснял, что хочет записать разговор, но понимает, что сегодня Колесник к этому не готов. Черт! Ну не в первый же день!
– Может, для начала просто поговорим, привыкнем? А магнитофон будет включен?
– Да. Хорошая идея, хорошая.
Миха останавливает пленку, немного перематывает обратно и нажимает «пуск». Колесникова «хорошая идея» – металлическая, но отчетливая – с шипением врывается в комнату. Старик смеется, но отводит глаза. Он напуган звуком собственного голоса.
Они сидят в кухне среди кастрюль, сковородок, тарелок, а кассета крутится, записывая тишину. На загнетке сидит новенькая буханка хлеба, в коробке насыпан лук. Каждая вещь на своем месте: у дверей стоят сапоги, на полке, крашеной под цвет стен, – кожаные рукавицы. Елена Колесник хлопочет по хозяйству: то выйдет в сад, то в дом вернется – не обращая на Миху и работающий магнитофон никакого внимания, будто бы их вовсе нет.
– Мы будем соблюдать наш уговор.
– Да.
Миха отвечает, хотя это был не вопрос. Колесник кивает. От уголков его глаз разбегаются морщинки – не то улыбка, не то усмешка. Миха понимает: это предупреждение. Старик проводит для них обоих строгую черту.
Перед сном Миха ставит аккумуляторы на подзарядку, в ночной черноте горит красный огонек. Не забыть перед отъездом доплатить Андрею за электричество.
* * *
– Расскажите о том, что здесь происходило. Когда здесь были немцы.
Колесник хмурится, слегка вздергивает голову.
– Много всякого происходило.
Михе кажется, что старик над ним насмехается.
– Да. Я знаю. Но расскажите, пожалуйста, что они здесь делали.
И тут же на краткий миг зажмуривается. Известно, что они делали: убивали. Собственная просьба кажется ему наивной. Еще более наивной, Миха знает, окажется она вечером, когда он будет прослушивать запись.
– Может, начать с того момента, когда немцы впервые появились?
– Хорошо.
Старик откашливается.
– Итак. С того момента, как пришла армия?
– Она первая шла?
– Да.
Плечи у старика теперь не так безупречно тверды, и он соглашается взять предложенную сигарету. Колесник смотрит на Миху: старый на молодого. На лице грубая кожа, глубокие морщины пролегли между скулами и ртом. Возле глаз кожа бледнее и тоньше, но от дыма она сейчас сморщена.
– Сорок первый год, летом. Мы увидели самолеты, а затем пришла армия. Позже появились SS с полицаями и остались. Поставили полицейский участок и бараки, назначили новое правительство. До этого были коммунисты, а немцы набрали новых людей и сделали новое правительство.
– Набрали людей – немцев?
– Немцев и белорусов. Верхушка вся была немецкая, но были, конечно, и белорусы, которые на них работали. То же самое происходило в полиции.
– А потом?
– Ввели комендантский час, новые законы. Изменили все. Школы, дороги, фермы. Колхозов не стало.
Вместо этого крестьяне должны были работать на немцев. Чтобы кормить армию на востоке. Такие дела были. Вот так они все переменили.
Миха ждет, но вряд ли Колесник станет говорить по собственному почину.
– А потом?
– Что именно вас интересует?
– Здесь жили евреи?
– Да, жили.
– Что с ними стало?
– Их расстреляли.
У Колесника белое, отсутствующее лицо. Говоря, он глядит Михе прямо в глаза.
– А кто расстреливал, вы можете сказать?
– Смотря кто тут в это время был. Иногда только полицаи, иногда полицаи вместе с SS, солдатами.
– Waffen SS?
– Некоторые из них.
– Немцы?
– Немцы, белорусы, литовцы, украинцы. В основном немцы.
– Расскажите об этом.
– Что именно?
– Кто это был? Что они делали?
Старик уперся в него взглядом.
– Я просто хочу знать, кто были эти люди и что они делали.
Колесник, затянувшись, кивает.
– Если не хотите, можете не отвечать.
– Да, знаю.
Колесник говорит жестко, но его лицо – уже далеко не такое отсутствующее, как прежде.
– Меня интересуют только немцы.
– Да, вы говорили. Что немцы делали с евреями.
– Подробности ни к чему Только люди. События.
Миха дает старику время подумать, подобрать слова. Распрямляет пальцы, потирает на ладонях красносиние полумесяцы, следы от ногтей.
– Сначала они создали гетто. Это они сделали первым делом. И запретили евреям ходить в школы, работать – им больше не разрешалось работать на себя. Наверное, все началось с этого.
Колесник устраивается поудобнее на стуле. Миха молча ждет, и старик продолжает.
– Вскоре, как они пришли, они расстреляли всех мужчин, ну или почти всех. Всех стариков, всех больных и всех мальчиков. Оставили только немного тех, кто мог работать. На лесопилке, в других местах. Остальных расстреляли.
– Расстреляли?
– Согнали их ночью в город, а поутру расстреляли. Они боялись, что мужчины поднимут оружие против них.
Колесник отрывисто кашляет, прикрывая рот широкой ладонью.
– А по весне убили еще больше евреев; собрали их со всей округи, со всех деревень и посадили в гетто. Часть оставили работать, остальных расстреляли. Так и продолжалось.
– Долго? Долго это продолжалось?
– Последние расстрелы были в сорок третьем.
– И кто их производил?
Старик раздраженно хмурится.
– Как я уже говорил – полицаи, SS, все подряд.
– Waffen SS?
– Не помню. Возможно. Это происходило в лесу, к югу отсюда, за рекой. Там они и похоронены.
– А когда в сорок третьем?
– В конце лета.
– В конце лета.
Колесник замолкает, а Миха сидит и думает: опа был здесь. В то самое время, в том самом месте.
– Нет. В начале осени. На полях стояли стога.
Миха поднимает голову. Старик смотрит в окно.
Странно, что именно это запомнилось. Расстрелы и стога: людей убивали, а времена года шли своим чередом.
– Что потом? Уцелевшие евреи прятались по деревням, по болотам, уходили к партизанам. А немцы их искали.
Миха смотрит на сидящего перед ним старика. Он все это видел. Все помнит. Расстрелы, лето, осень, зима, весна. Ктто пустели и наполнялись вновь.
Миха открывает блокнот на столе. Безотчетно, просто чтобы что-то делать.
– Что вы пишете?
– Ничего.
– Вы будете записывать наш разговор?
– Не знаю. Возможно. Вы не против?
Колесник кивает.
– Нет, нет.
Молча сидят. Старик прилежно ждет, пока Миха заговорит.
Но Миха не в силах спрашивать, в голове вертится:
«Время и место те самые. Лето, осень сорок третьего. Он все помнит».
Миха захлопывает блокнот.
– Простите. Давайте остановимся. Думаю, на сегодня с меня хватит.
* * *
Вечером Миха едет на велосипеде из одной деревни в другую. Сначала гонит быстро, но потом сбавляет ход.