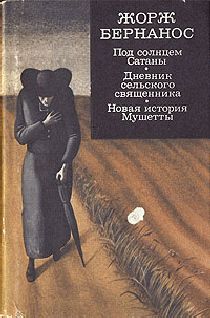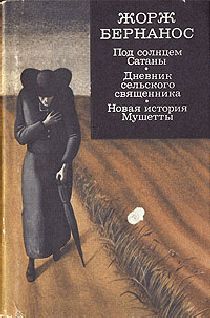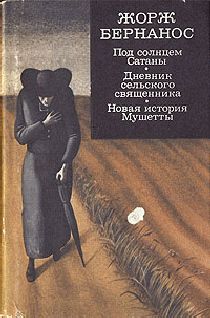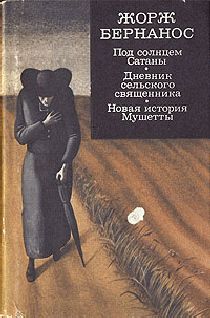- Я грустный потому, что люди не любят Бога.
Она покачала головой. Синяя грязная лента, которой она перехватывает на макушке свои жалкие волосенки, развязалась, и ее концы нелепо болтались у подбородка. Мои слова явно показались ей непонятными, совершенно непонятными. Но она не долго раздумывала.
- Я тоже грустная. Это хорошо - быть грустной. Это искупает грехи, иногда говорю я себе...
- Ты, значит, много грешишь?
- Еще бы! (Она бросила на меня взгляд, в котором был и упрек, и какое-то смиренное признанье.) Вам же отлично это известно. И не в том дело, что они так уж меня интересуют, мальчишки! Они ничего не стоят. Такие дураки! Просто бешеные псы, да и только.
- И тебе не стыдно?
- Стыдно. Мы вместе с Изабеллой и Ноэми часто встречаемся с ними там, наверху, за Маликорновым холмом, в песчаном карьере. Сначала мы все скатываемся с горки. Тут уж я самая отчаянная, можете не сомневаться! А когда они все уходят, я играю в покойницу...
- В покойницу?
- Ну да, в покойницу. Вырою яму в песке, лягу в нее на спину, вытянусь, руки на груди скрещу, глаза закрою. Стоит мне пошевелиться, хоть самую чуточку, песок сыплется за шиворот, в уши, даже в рот. Я хотела бы, чтобы это была не просто игра, чтобы я в самом деле умерла. После разговора с мадемуазель Шанталь я там пролежала несколько часов. Когда я вернулась домой, папа меня отлупцевал. Я даже заплакала, а это со мной случается не часто...
- Значит, ты никогда не плачешь?
- Нет. Слезы кажутся мне противными, грязными. Когда плачешь, грусть выходит из тебя, а сердце тает, как масло, фу, мерзость! Или же... (она снова прищурилась) может, нужно найти какой-то другой... другой способ плакать, что ли? По-вашему, все это глупо?..
- Нет, - сказал я. Я не знал, как ей ответить, боялся, что малейшая неосторожность отдалит от меня навсегда этого дикого зверька. - Настанет день, когда ты поймешь, что такой другой способ плакать - молитва, только в слезах молитвы нет малодушья.
При слове "молитва" она насупила брови, как-то по-кошачьи сморщив нос. Она повернулась ко мне спиной и, сильно хромая, пошла к двери.
- Почему ты хромаешь?
Она резко остановилась, напружинилась всем телом, готовая сорваться с места, оборотила ко мне только лицо. Потом опять передернула плечиками, как в первый раз. Я потихоньку приблизился, она тщетно пыталась натянуть на колени свою серую шерстяную юбку. Через дырку в чулке я увидел, что нога у нее совершенно лиловая.
- Вот из-за чего ты хромаешь, - сказал я, - что это?
Она отскочила назад, но я успел схватить ее за руку. Она стала вырываться, и чуть выше икры приоткрылась толстая веревка, стянутая так туго, что по обе ее стороны набухли два валика, лиловые, как баклажан. Выдернув руку, она запрыгала на одной ноге между скамей, мне удалось поймать ее только в двух шагах от двери. Она глядела на меня с такой серьезностью, что сначала я молчал.
- Это я наказала себя за то, что выболтала все мадемуазель Шанталь, я дала обет не снимать веревки до сегодняшнего вечера.
- Разрежь немедленно! - сказал я и протянул ей свой нож, она молча подчинилась. Но боль от внезапного прилива крови была, вероятно, чудовищна, так как она скорчила ужасную гримасу. Если бы я ее не подхватил, она наверняка упала бы. - Обещай мне, что это не повторится.
Она кивнула, все с той же серьезностью, и ушла, держась рукой за стену. Храни ее Господь!
Ночью у меня, по-видимому, было кровотечение, пустяковое, конечно, но теперь я уже не могу обманываться, нос тут ни при чем.
Было бы неразумно откладывать без конца визит к врачу в Лилль, и я написал доктору, попросив его принять меня пятнадцатого. Через десять дней.
Я выполнил обещание, которое дал м-ль Луизе. Мне было трудно заставить себя пойти в замок. Но, к счастью, я повстречался с г-ном графом на улице. Его, казалось, ничуть не удивила моя просьба, можно подумать, он ждал ее. Я и сам действовал на этот раз гораздо более ловко, чем надеялся.
С обратной почтой получил ответ от доктора. Он согласен принять меня пятнадцатого. Я сумею обернуться за сутки.
Вместо вина я пью теперь очень крепкий кофе. Это мне на пользу. Чувствую себя хорошо, но из-за кофе у меня бессонница. Я не страдал бы от нее, иногда она мне даже приятна, если бы не сердцебиение, по правде говоря довольно томительное. Рассвет, как всегда, приносит мне избавление. Он сладостен, как божья благодать, как улыбка. Да будет благословенно утро.
Силы возвращаются ко мне и вместе с ними что-то вроде аппетита. К тому же стоит прекрасная погода, сухо и холодно. Луга в белом инее. Деревня совсем иная, чем осенью, в прозрачном воздухе она словно мало-помалу приобретает невесомость, и когда солнце начинает клониться к закату, кажется, что она висит в пустоте, не прикасаясь к земле, ускользает от меня, возносится. Зато сам я будто тяжелею, точно мой вес все сильнее притягивает меня к земле. Иногда это обманчивое ощущение настолько навязчиво, что я смотрю со своего рода ужасом, с необыкновенным омерзением на свои грубые башмаки. Зачем они здесь, в этом сияющем свете? Мне чудится, что они увязают в почве.
Молюсь я, конечно, лучше. Но сам не узнаю своей молитвы. Раньше она была настоятельной мольбой, и даже когда я читал, например, по требнику, что отвлекало мое внимание, я ощущал себя собеседующим с Богом, то просительно, то упрямо, требовательно - да, я хотел вырвать у него милости, силой добиться его ласки. Теперь я ничего не хочу. Подобно деревне, моя молитва стала невесомой, она возносится... Хорошо ли это? Плохо? Не знаю.
Опять небольшое кровотечение, точнее, я харкаю кровью. Страх смерти коснулся меня. Конечно, мысль о смерти часто посещала меня и раньше, подчас внушала боязнь. Но боязнь не страх. Это длилось всего мгновение. Не знаю, с чем сравнить это пронзительное ощущение. С ударом тонкого бича по сердцу, возможно?.. О, Голгофа!
Легкие у меня в плохом состоянии, это точно. Но ведь доктор Дельбанд внимательно меня выслушал. За несколько недель туберкулез не мог значительно прогрессировать. К тому же с этой болезнью нередко можно совладать энергичным усилием, волей к выздоровлению. Я способен на это.
Сегодня завершил посещения, которые г-н торсийский кюре иронически назвал "надомными". Если бы мне не был так ненавистен лексикон, привычный для многих из моих собратьев, я сказал бы, что эти визиты были "утешительными". А меж тем я отложил на конец те из них, положительный исход которых казался мне наименее вероятным... Откуда вдруг эта легкость в отношениях с людьми и вещами? Или она воображаема? Или я утратил чувствительность к мелким неприятностям? Или теперь, когда мое ничтожество признано всеми, это обезоружило подозрительность, антипатию? Все проходит передо мной, точно во сне.
(Страх смерти. Второй приступ был, мне кажется, не таким острым, как первый. Но какое странное чувство - это содрогание, это сжатие всего существа вокруг какой-то точки в груди...)
Только что была у меня одна встреча. Встреча, впрочем, ничем не удивительная! В том состоянии, в котором я сейчас, самое ничтожное событие теряет свои точные пропорции, словно пейзаж в тумане. Короче, я повстречал, как мне думается, друга, мне открылась дружба.
Это признание немало удивило бы моих прежних товарищей, так как я слыву человеком, который хранит верность приятельским отношениям, сложившимся в юности. Я помню все даты, славлюсь, например, тем, что не забываю никого поздравить с годовщиной рукоположения. Над этим даже посмеиваются. Но все это не более, чем приятельские отношения. Теперь я понимаю, что дружба между двумя людьми может вспыхнуть внезапно с той неодолимой силой, которую миряне готовы признать лишь за любовью с первого взгляда.
Итак, я направлялся в Мезанг, когда услышал вдалеке за спиной рев сирены и тарахтенье, которое то наполняло собой воздух, то стихало, в зависимости от капризов ветра или изгибов дороги. В последние дни все уже привыкли к этим звукам, и никто даже головы не подымает. Только скажут: "Опять этот мотоцикл г-на Оливье". Машина немецкая, поразительная, она похожа на небольшой сверкающий локомотив. Настоящее имя г-на Оливье Тревий-Соммеранж, он приходится племянником г-же графине. Старики, знавшие его здесь ребенком, неистощимы на рассказы о нем - восемнадцати лет пришлось отправить его в армию, настолько трудным был этот мальчик.
Я остановился передохнуть на склоне холма. Шум мотора на несколько секунд затих (наверное, из-за крутого Диллонского поворота), потом вдруг снова стал нарастать. Это напоминало какой-то дикий вопль, повелительный, угрожающий, отчаянный. Почти тотчас на гребне передо мной возник сноп пламени - солнце било прямо в отполированную сталь, - и вот уже машина промчалась по спуску и с мощным рыком так стремительно поднялась вверх, что казалось, единым махом вспрыгнула на холм. Когда я кинулся в сторону, чтобы пропустить ее, сердце точно оборвалось в моей груди. Лишь через минуту я осознал, что не слышу больше рева, только пронзительный стон тормозов, скрежет колес о гравий дороги. Потом не стало и этих звуков. Наступившая тишина показалась мне оглушительней грохота.