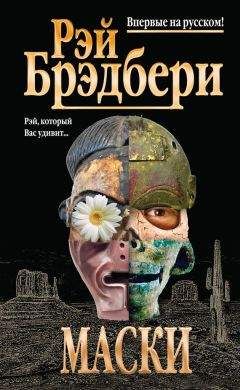Атаки действительности, рассудка и сердца разбиваются о еще более мощную несомненность присутствия — так и произойдет на суде, и суд уже скоро, ибо новый век отбирает из старого лица и судьбы. Это называется Образом Человека. Феномен, столь же не определяемый умозрительно, понятийно, сколь ясный любому, даже предвзятому человеку, когда этот образ открывается взору, а он только и делает что являет себя глазам. Тут все очень просто: если спор заходит об исторической личности, надо вызвать в воображении картину и ауру исполненных ею поступков, и тогда корсиканский упырь Бонапарт снова предстанет европейским, атлантическим чудом, а эксцентричный лорд Байрон — манифестацией поэтического начала, не захотевшего пылиться в страницах, потому что перед ним забрезжило действие.
Ганди проверяется так же. Полуголый, лысый, очкастый старик с посохом и ораторским поучением. Уже плохо передвигается, его выводят под руки. Рядом толпа, повинующаяся его жесту и слову, а он учит ее неподчинению, тому, что можно расстаться с покорностью, страхом. Какая-то баснословная, из глубин этики, безбоязненная простота движений, радость людей, впервые уверовавших, что они отличны от грязи, по которой плетутся их ноги. Радость — чтобы ее пережить, надо быть взбунтовавшимся рабом. Экзистенциальная подлинность; вот что ни при каких расчетах нельзя имитировать. У приходивших к нему не было ничего, и это не такое «ничего», которое подразумевается обычно в западных конструкциях отрицания, где оно не расторгает своей связи с удобствами и приятными вещами вроде трехразового питания, юридических гарантий и чековой книжки, но настоящее «ничего» — воронка пустоты и отчаяния. У них не было и проблеска надежды, и они давно забыли, что означает это слово, ведь их от него отлучали с самого детства, впрочем, они из поколения в поколение урождались старыми, сирыми и больными. И на протяжении тысячелетия невозможно было отделить это рождение от робкой, старательной смерти. Он стал их надеждой, невозбранной надеждой, он, иссохший плешивый старик, знающий, что, когда непокорные садятся на площади, всего лишь спокойно, безоружно садятся, их, отведавших неподчинения (эта пища слаще начальственного «гавваха», после нее ни одно яство не насыщает), уже нельзя загнать в стойло, хотя первые ряды наверняка будут растоптаны. Но и они уйдут из внешней небратской среды, в иную, общинную среду милосердия и родства, храня вкус подаренной им справедливости. Этот образ махатмы убийце не удалось расстрелять, пули его не берут, ибо Ганди был мастером цельного существования, тем, кто, по-блоковски говоря, ощущает стержень всего своего творчества и держит ритм в себе.
В раннем Марксе находим высказывание, звучащее, если немного перефразировать, так: индивидуум в обществе потребления свободен как потребитель и только в качестве такового, его эмансипация формальна. Речь о главенствующей идее западного универсума, не чуждой, однако, Востоку — там слышны верблюжьи колокольца великих караванных путей, пространство битком набито базарами, продающими бязь, шафран, благовония и невольниц, а словесность Востока, его устный и письменный сказ, будь то ночные истории или дневные плутовские маккамы, полнится торговою выгодой, денежным предвкушением, хитрым грабастаньем удовольствий (масляные губы сердечком и трубочкой). Здесь тоже лишь потребительская свобода. Приходившие к Ганди не обладали ничем, но потому они больше других горели голодом, им нужны были кров, чашка риса и кусок ткани для тела. Их мысли были пронизаны тоской о необходимых вещах. Он же их наставлял в ненасилии, и пришла пора разъяснить термоядерный экстремизм его доктрины.
Идея насилия означает в том числе алчность присвоить себе объект, сделать его годным к использованию, потреблению, и тогда объект — природа или человек — становится подчиненною вещью, из которой вытравлено автономное полагание цели. (Насилие может ставить перед собой идеальные задачи революции духа, но известно, чем это кончается: сосредоточением силы и собственности в руках узкой группы, малого класса.) Но и владеющий вещью — неважно, говорит она или молчит, — несвободен в той же степени, что и закабаленный предмет, он арестант потребления, узник своей непрерывной мысли о нем, ему всегда мало присвоенного, его тело стынет без приобретений. Провозглашенный махатмой разрыв с насилием ввергает жизнь в светящуюся беспримесность нестяжания, в невозможность каких-либо подчинительных и подчиняющих связей и отношений. Отказывая действительности и ее обитателям в философском праве на обладание, ненасилие выбивает из-под мира и опору самообладания, и он рушится, представая ареной кошмара. Суть в том, что «ахимса», воздержание от насилия, дополненное сопротивлением владычеству иноземцев, это не просто изгнание копошащихся червей подчинения-потребления как власти человека над человеком, но запрет на стяжание всего, кроме свободы, это полная незаинтересованность в мире, если в нем есть что-то еще, кроме свободы. Ахимса ведет к состоянию, испепелившему внутри себя все, за исключением смерчей и энергий, избавляющих от порабощения властью, от ее гравитации, от материи в целом. Именно материя главнейший из угнетателей. По сравнению с этой утопией меркнут полюса анархизма. Результатом такой политики должно стать царство всеобщей освобожденности и солнечно-лучистых людей, ибо люди, избравшие ненасилие, уже не принадлежат никому, они свободны от владения и подчинения, они могут троекратно возгласить о своей чистоте, как это делает душа человека, держащего ответ в египетской Книге мертвых. Союз ахимсы и сатьяграхи означает тем самым бунт даже не против метафизических, но бытийственных основ порядка, это великий отказ. Понятно, что в таком мире, чуть только забрезжил его слабый абрис, падают законы, раскалывается земля, трупы беженцев устилают дороги, и в этот момент Ганди опускает голову от стыда, а Годсе берется за револьвер. В тот же момент возникает и нечто похожее на уже упомянутую надежду (не так просто сказать, чем она вызвана, на что направлена), люди снова выходят на площадь и отмечают смерть своего вдохновителя праздником открывшейся им солидарности.
Насилие. Эрнесто Че Гевара
По преданию, у Нерона было два черепа. Их парно показывают в галереях истории, сопровождая осмотр пояснением, из которого следует, что экземпляр, уберегшийся поживее соседнего, относится к допожарной римской эпохе, а родственный образец, с изжелта-черным налетом на челюстной и лобной кости, опален пламенем более поздних императорских происшествий. Из глазниц первого, когда в них помещалось зрение юности, артист и спортсмен смотрел в лицо амфитеатрам, восхищавшимся его певческим, кифаредным и колесничим даром. Боковой же огляд этой власти и без посредства увеличительных граней карбункула ловил тихое падение лепестков, которыми была по макушку засыпана упившаяся компания всадников. Созерцал слишком долгую агонию матери. Заметил показуху дворцового воспитателя: хитрый старик припас в складках своего учения несколько посланий к потомству и, неторопливо смотав с себя тогу, успел огласить их раньше, чем ванна наполнилась его лягушачьей сукровицей и чванливой стоической атараксией. В нужный срок зафиксировал литературный гонор арбитра Петрония, чей стиль только воспрял от проникновения в него Нероновых экономных изяществ, но стилист заартачился, погнушался соавторства с ним, которого зонги горланили в тавернах и лупанарах. Этот взгляд видел много чего. Так много, что глазницы второго, почерневшего от пресыщения черепа, уже не могли справиться с кружением впечатлений, и лишь из ротового отверстия, точно из прорези театральной маски, — император любил ее надевать, и в канун выступлений лелеять подсасывающий нутро холод, и потом, едва отшумят крики черни, совещаться с друзьями, не подвел ли его тонкий голос, — излетел вздох: какой артист умирает!..
Толки о последних словах все повидавшего Че Гевары противоречивы, смутны. Говорят, он назвал свое имя и признал поражение. Согласно боливийским службистам безопасности, попросил известить Фиделя, что провал миссии не означает окончания революции, и она еще возьмет континент. Утверждают также, что он обратился к солдатам и велел им стрелять хорошо. Расхождение в воспоминаниях и трактовках было вызвано тем, что от Гевары как будто не уцелело ни косточки, ни одного кожного лоскутка, ни одного материального знака, без которых память бессильна восстановить происшедшее, — Кювье для того, чтобы реконструировать крик звероящера, понадобился все же палеонтологический хрящик, а песнопения древнего гончара удается расслышать, след в след повторив его круговые бороздки на глиняной поверхности кувшина. Но после того, как останки Гевары были найдены в братской могиле близ городка Вальегранде и мясо преданий уже не скрывает оголенный скелет событий, можно удостовериться: на прощание он не сказал ничего, потому что завернутый в оливковую армейскую куртку череп вождя партизан сохранил в своих дырах не звучание слов, а отблеск улыбки — ею он встретил приказ о расстреле.