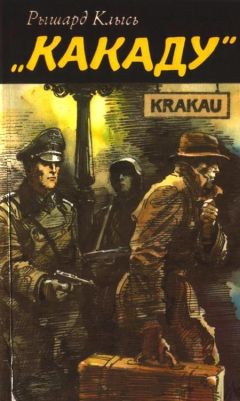— Почему ты не ешь, Алик? — спросила с беспокойством пани Марта. — Отличный суп. Ешь, пока теплый.
— Алик, наверно, думал, что будет свекольник с ушками, — укоризненно отозвалась Юлия. — Говорила тебе, мама, приготовь борщ…
Я поднял над тарелкой голову, посмотрел на сидевшую напротив девочку и подмигнул ей. Юлия ободряюще улыбнулась мне:
— Ну, ешь, Алик. Размышлять будешь потом…
— Ладно, Мышонок, — ответил я. — Ты права…
— Мы так беспокоились о тебе, — сказала пани Марта. — Боялись, что не успеешь прийти до комендантского часа…
— Поезд опоздал.
— Я уже решила, что на вокзале облава.
— И это было.
— Боже мой! — вздохнула она. — Даже в сочельник не дают покоя. У них, должно быть, совсем нет сердца. И зачем только мучают людей? Ведь это так жестоко и глупо.
— Да.
— И много народу задержали?
— Почти всех, у кого был багаж. Проверяли очень тщательно…
— Но тебе удалось уйти?
— Помог случай.
— Боже мой! — вздохнула пани Марта. — Боже мой…
— Окружили весь вокзал. Все платформы…
— Как же ты сумел пройти? — спросила Юлия.
— Нормально, как обычно, через главный выход…
— И никто тебя не задерживал?
— Нет. Никто меня не задерживал. Я шел в обществе немецкого майора, которому нес чемодан. Жандармы, видя нас вместе, считали, что он нанял меня вместо носильщика. Таким образом мне и удалось выйти с вокзала…
За столом все повеселели, девочки смеялись, смеялась их мать, только я был по-прежнему серьезен.
— Тебе повезло, Алик.
— Да. Мне удивительно повезло.
— Расскажи подробнее, как это все было, — попросила Юлия.
— Стоит ли?
— Расскажи, Алик. Ужасно смешная история.
— Оставьте его в покое, дети, — вмешалась пани Марта. — Пусть хоть поужинает спокойно…
— Ладно, расскажу, — проговорил я тихо. — Расскажу вам все подробно, но только после ужина. Согласны?
— Хорошо, Алик.
Разговаривая с ними, я непрестанно думал о майоре, о том необыкновенном стечении обстоятельств и событий, которые позволили мне выпутаться из, казалось бы, безвыходного положения. Думал и о его многозначительном монологе, о том, что он говорил о палаче и жертве, но все еще никак не мог понять, что было нужно этому человеку, по-прежнему не понимал мотивов его действий, которые привели в конце концов к тому, что, спасая мою жизнь, он добровольно обрек себя на смерть, ибо уже с той минуты, как он подошел ко мне на перроне, с той самой минуты, как заявил гестаповцу, что багаж — его собственность, ему грозила смертельная опасность, ведь, если бы стало известно, что в чемодане, ему пришлось бы наравне со мной испытать последствия своего безрассудного и рискованного решения. Содержимое чемодана предопределяло как мою, так и его судьбу. Я думал обо всем этом, склонившись над тарелкой грибной лапши, а когда припоминал некоторые моменты минувшего дня, меня охватывала досада. До чего же нелепо я вел себя тогда, в купе поезда: зажав пистолет в руке, сидел напротив майора, подсознательно убежденный в своем проигрыше, и был глух к аргументам этого человека, безрезультатно пытавшегося убедить меня в том, что он мне не враг. Я отбрасывал все аргументы и не доверял ему; может, это было и правильно, но, несмотря на весь мой страх и тревогу, не следовало его оскорблять. Мне нужно было откликнуться на тот дружеский тон, который он стремился придать нашей беседе, быть может, тогда я больше узнал бы о нем и о причинах, побудивших его решиться на столь рискованный шаг, а главное, не случился бы такой неожиданный и печальный финал. Я был в значительной мере повинен в его смерти, весь смысл его поведения я осознал, лишь когда мы благополучно выбрались из оцепленного района вокзала, только тут вдруг — к сожалению, слишком поздно — я понял, почему до последнего момента он не обнаруживал своего истинного намерения и сохранял всю видимость человека, которого забавляет сам факт превосходства над противником, возможность в любой момент решить его судьбу. Теперь-то я знаю, что не это было единственной и самой важной причиной именно такого его поведения. Он решил преподать мне урок, предостеречь на будущее, а быть может, и показать, на каких шатких основах покоится наше существование, подкрепить фактом свой тезис о палаче и жертве. Я постепенно восстанавливал в памяти все сказанное им в поезде; в сущности, в его словах не было никаких откровений, но, если бы я не слышал всего того, о чем он так свободно говорил, я, наверно, так никогда и не сумел бы понять причин, управлявших им в тот момент, когда он обратился к крайнему аргументу в игре, которую мы затеяли с первой минуты нашей встречи и в которой, как мне казалось, последнее слово будет за ним. Впрочем, несмотря на столь трагичный для него финал, оно за ним и осталось, но об этом знал только я, и никто, кроме меня, никогда не узнает правды об этом событии, несущем в себе самые заурядные приметы времени — того времени, когда смерть появлялась неожиданно, а убийство из-за угла было будничным явлением. Я чувствовал себя, однако, в чем-то обманутым, даже одураченным — ведь я не хотел его смерти, хотя считал этого человека своим врагом; не хотел, чтобы он умирал; неожиданно меня осенило — я понял, что в этот вечер от наших рук погиб кто-то близкий, и в первый раз за последние годы осознал, что и они тоже теряют людей, которые должны жить ради того дня, что когда-то все же наступит.
— Налить тебе еще супа? — спросила пани Марта.
— Нет. Спасибо.
— Нравится тебе наша елка?
— Очень. Кто ее украшал?
— Юлия.
— Красиво нарядила. В самом деле, чудесная елка!
Комнату наполнял запах хвои, острый и дурманящий аромат смолы, вызывавший в памяти лес, заснеженные горы и молодые перелески, поросшие кустарником склоны холмов, но этот запах неотъемлемо ассоциировался и с кладбищем, смертью, свежевыкопанными могилами и венками из сосновых и еловых веток с вплетенными в их зелень искусственными цветами. Я смотрел на деревце, а пани Марта с девочками убирала со стола суповые тарелки. Передо мной словно по волшебству появился графинчик с водкой, я улыбнулся, девчонки прыснули, а пани Марта весело заметила:
— Ну вот, наконец я вижу на твоем лице улыбку, Алик…
— Вы, конечно, раздобыли водку для меня, — сказал я. — Это лишнее. Я и так доставляю вам немало хлопот.
— Водку я получила в подарок от своего брата Михала, ты же знаешь, он работает управляющим в имении барона Гётца. Он был у нас вчера и привез немного продуктов. Если бы не он, не знаю даже, как бы я устроила сегодняшний ужин.
На столе появилось большое блюдо — пирожки с капустой, жареная рыба и заливное, я выпил сразу несколько рюмок водки, и настроение мое заметно улучшилось. Пани Марта тоже выпила две рюмки и, расчувствовавшись, вспомнила старые времена, юные годы, сочельники прошлых лет, на ее счету их было по крайней мере вдвое больше, чем на моем, рассказывала всякие забавные случаи из своей жизни, а потом стала вспоминать детские шалости своих дочерей — Люции, Францишки и Юлии; слушая ее, мы хохотали до упаду, и хотя эти истории не были для нас новинкой, сколько бы раз пани Марта к ним ни возвращалась, всегда находилась какая-то новая забавная деталь. Чаще всего героиней рассказов была младшая дочка Юлия, четырнадцатилетняя девочка, развитая не по годам, с живым воображением, впечатлительная и добрая и притом большой сорванец; Юлию я любил больше всех дочерей пани Марты. Я смотрел на ее худое овальное личико, светлые, как лен, заплетенные в две толстые косы волосы, и когда наши взгляды встретились, в ее глазах мелькнуло выражение такой преданности и поклонения, какое бывает только у влюбленной девушки. На меня вдруг нахлынула волна нежности к этой маленькой худенькой девочке, внимательно следящей за каждым моим жестом, отгадывающей самые сокровенные мои мысли, прислушивающейся к каждому моему слову, словно она собиралась открыть в нем будущий смысл собственного существования. Я рассмеялся, мне показалось смешным, что именно я стал объектом ее первой любви. Неожиданное открытие застало меня врасплох; я вдруг понял истинную подоплеку ее неустанных попыток привлечь мое внимание, попыток по-детски наивных, но уже полных неосознанной тоски по любви, — так вот в чем скрытый смысл ее ласковости, робких поцелуев и нетерпеливых вопросов, за ними стоит тревога за свою любовь; когда я все это понял, меня охватило смешанное чувство волнения и беспокойства, ибо я подумал, что эта девочка, почти ребенок, уже сейчас отмечена печатью страдания, она не отдает себе отчета в том, что меня нельзя любить, нельзя любить человека, судьба которого столь опасна и ненадежна, который в любую минуту может погибнуть. Да, но все это, однако, не мешает мне самому неустанно искать любви, думать о ней, стараться вызвать ее, хотя я отлично знал, как безрассудны и тщетны все мои усилия. Инстинктивно защищаясь от власти над собой ненависти и зла, в поисках равновесия и опоры я стремился к любви, потому что только любовь давала мне возможность почувствовать себя, хоть на время, в стороне от губительных страстей войны, истребляющих в нас все, что еще можно было бы спасти. В этих непрестанных поисках истинного чувства судьба подсовывала мне чаще всего лишь плоские интрижки, а они ничего мне не давали, разве что на какое-то время помогали отвлечься от жестокости военных будней; я никогда не хотел мириться с тем суррогатом любви, который не раз поспешно предлагали мне то под влиянием неожиданных импульсов, то в порыве жалости, — все это было совершенно недостойно и женщин, и меня, но в условиях тех лет мы часто довольствовались малым, хватали без разбора что придется, все равно как и где, напоминая своим поведением тех жалких старцев, у которых перед смертью осталось лишь одно желание — наесться досыта.