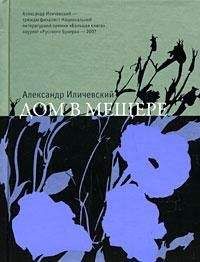И что, скорее всего, это говорит о наличии обратного мимикрии механизма: если оказывается невозможным умилостивить враждебную по(ту)сторонность своим уподоблением ей, то возникает вполне естественное – потому что спасительное – стремление срочно покорить ее своей выдумке. Причем удача тем вероятней, чем чудесней оказывается выдумка. Выдумка же только тогда чудесна, не когда она истинна, – а когда восхитительна и нова. Истина, отчасти, всегда – старое и неудивительное и в меньшей степени способна своим открытием что-либо изменить.
Действительно, думал я, идеи Евклида, о волшебной новизне которых нам давно уже ничего неизвестно, были ничуть не менее сногсшибательны, чем в конце концов завоевавшие реальность предположения Минковского. Неограниченная линейность пространства, в котором – хотя и мысленно – возможно перемещение наблюдателя до самого до-без-конца, для древних греков была идеей, рожденной бредом, но именно она привела Александра на место Дария. А учитывая базисное положение трезвого отношения к жизни – «ненаблюдаемое не существует», можно утверждать, что, собственно, поход Александра и был тем ратным импульсом, спровоцированным выдумкой, в результате которого пространство раздалось, развернулось по осям – и стало впервые Евклидовым.
То есть я хочу сказать не только то, что уже давно известно: реальность куда более податлива умелому воображению, чем опыту, но и то, что, по крайней мере, половина всей нервотрепки, которой мучается человек, стреноженный идеей места, имеет своей причиной бездомность.
Бездомность – это тот непреодолимый зазор – простор – между посторонностью и порождающей место мыслью о ней, что никак не может покрыться спасительной выдумкой Дома. Человеку всегда то мучительно тесно, то вычурно просторно, то пространство вообще норовит то там то сям дать течь пустотою, или обморочно опрокинуться из-под ног – в немыслимый верх, или вообще выколоться из глаз исчезнувшей точкой схождения перспективы… Вот тогда-то и принимаешься страшно думать: где я, зачем и куда податься, – и думанье это почти всегда – судороги.
Тут, пожалуй, стоит отвлечься и предварить это введение в теорию тоски по месту одной счастливой аналогией.
Удачней всего, на мой взгляд, ведут свою тяжбу с пространством пчелы: они его не покоряют – поскольку недальнобойны, и не выдумывают – поскольку нечем; они его собирают.
То, что получается в результате их сборов – соты, – являет собой устройство личного представления пчел о пространстве: оно у них – такое, кристалловидное, с шестиугольной упаковкой. (Если же учесть, что свет – это «сок созревших для зренья пустот», то, намазывая хлеб на завтрак медом, мы должны отдавать себе отчет, что на деле собираемся вкусить: теплое пчелиное зренье.)
Известно, что пчелы таинственным образом связаны с поэзией, Словом. Не помню кому – кому-то приснилось, что во рту его поселился пчелиный рой, а наутро, стоило ему только открыть ставшие сладкими уста, они вылетели в строчку – стихами, стансом, и с тех пор счастливец обрел пророческий, подкрепленный эвфоническими достоинствами дар.
Эта связь еще более укрепляется наличием «велящих просодии пчел Персефоны»: увы, только укрепляется, приумножая пространство тайны, но не проясняется.
В связи с этим рукой подать – по пословице: чем дальше в лес, тем больше чуда – до следующей не менее смутной догадки. Не в пчелах ли кроется эта улавливаемая где-то на самых антресолях сознания сложно-перекрестная связь двух пар: места – времени < = > звука – смысла?
Хотя и поверхностно, но в общем-то внятно валентные связи этих пар обнаруживаются в следующих сентенциях:
«Совпадение вещи и места – и только это – делает их значимыми в области смысла»;
«Место есть ловушка смысла вещи в пространстве: смысловая линза, через которую разглядывают тайну вещи»;
«Смысл есть понимание в звучащей ауре тайны»; «Звук есть место смысла вообще и в пространстве в частности»;
«Время есть мысль о месте вещи» (см. 1 и 2);
«Звук, просодия есть время, которое проистекает – как квантовая волна из элементарной частицы – из смысла и которая в него же – через понимание – возвращается»; а значит:
«Звучащее слово есть временна я составляющая пространства, оно разворачивает его осмысление».
(Сходные соображения, между прочим, гениально изложены Хлебниковым Велимиром в его «Топологии звукосмысла».)
Да, пожалуй, без пчел здесь точно не обойтись. Их медиумические функции между пространством и смыслом особенно прозрачны. Подобно словам – летом в конец стиха за взятком смысла, они покидают сознание-улей и кусочками понимания возвращаются в него, облетев окрестность произрастающей, как на кипрейном лугу, в месте-времени тайны. Вот отчего уста, владеющие даром просодии, – сладкие: потому что лакомы пчелам, а златоуст – это, очевидно, медоточивый и, следовательно, золотистый образ.
Все, что касается пчел – и смысла, и времени, и звука, и места, – конечно, ужасно увлекательно, но не менее – страшно поверхностно. То есть, отметив их такую явную связь, совершенно неясно, куда податься дальше. Это похоже на беготню по льду за зайчиком от стекол собственных вымазанных солнцем очков.
(Размыслительный зуд, однако, никак не сдержать, и он упруго мечется – хотя и в скобках – по этой теме вокруг Самсоновой загадки: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое». И не третий, и не седьмый день я морочаюсь этой тайной – одно то хорошо, что взятки с меня, как со скопца, гладки: ни тридцать синдонов, ни тем более столько ж перемен платья не имею, да и брачный друг из меня никудышный: не едок, не пьяница и косноязычен, как ворона, настолько, что речей застольных и полминуты сдержать не в силах.)
Так что пчел мы пока, как числа, поместим в уме и займемся, вернувшись из отступления, одним только местом: тем, как оно, ставя жизнь на попа, норовит распахнуться пылающей пустотой, от которой, как от скользящей в ногах высоты – карусель и обморок.
В молодости я нередко бывал до тоски бездомен, чаще, чем это формально выглядело со стороны. Причиной моей бездомности не было физическое отсутствие места жизни: никуда не переезжая, я мог запросто сменить раз десять сряду область своего умозрительного помещения.
Это можно назвать метафизической неусидчивостью – когда сидишь на стуле в кухне и смотришь в окно на звезду на самом краю чернильного облака, и непонятно, то ли ты там, то ли здесь, то ли в облаке, то ли размазан широкой дугой меж эмпиреем и градом.
Когда особенно припекало, я с завистью думал о пчелах.
До сих пор я считаю, что есть мед – кощунство, что-то вроде каннибализма.
До сих пор, хотя, казалось бы, уже пора на боковую, я с мурашками по коже вспоминаю об одном из полигонов своей бездомности, где впервые со мной случился приступ места.
Но прежде чем вспомнить, следует сделать несколько пояснений относительно обстоятельств этого воспоминания.
Итак, все началось с острого чувства отсутствия собственного места-времени, его невозможности. Существенно еще то, что о ту пору я был чрезвычайно поглощен одной научной темой, связанной именно с попыткой разработать принципиально новый подход к топологическим свойствам Вселенной. Тут трудно отсечь причину от следствия, но связь с моей более ранней идеей – о податливости свойств места идее о нем – очевидна. В трех словах, новизна моего так и оставшегося на полдороге научного метода состояла в допущении неконтинуальности пространства-времени, в допущении, что во Вселенной не только присутствует явное нарушение фундаментального принципа изотропности, со всеми вытекающими отсюда последствиями – неполного соблюдения законов сохранения на очень мелких – десять в минус тридцать седьмой порядка – масштабах и т. д., но и как причина этого нарушения – самая настоящая «дырчатость» пространства-времени… Что Вселенная – это не однородный кусок мыла, а мелко-дырчатая губка, не плавленый сыр, а «Российский», не «вода без газа», а самая настоящая «газировка», начиненная пустотой-взрывчаткой, как углекислотой: ее вроде бы и не видно, но стоит только, взболтав, открутить крышечку опыта-восприятия, как – так долбанет, что… Короче говоря, если без тупых, предназначенных облегчить неискушенное понимание аналогий, – пришло мне однажды в голову, что место-время в нашей Вселенной начинено необнаружимыми обыкновенными средствами пузырьками самой настоящей пустоты, то есть такими мелкими областями абсолютного ничто (где ни материи, ни вакуума, ни даже черта с рогами и духу быть не может), что за счет своей всепроницающей мелкозернистости она, пустота, оказывается повсюду.
Вот и все. Пустота, получалось, всегда на мази, и все что ни есть живого – теплого и влажного, – все оказывалось пронизано ею.
Вот и все. Не знаю, как вас, но меня от одной только мысли об этакой возможности забирало так, что я и вздохнуть от ужаса не мог два года.