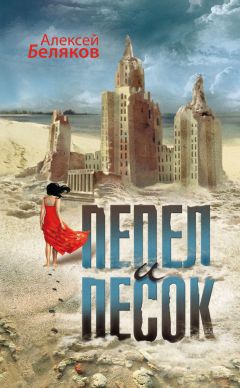Карамзин поднимается, скрипя нацистской кожей, смотрит на меня глазами утопленника.
КАРАМЗИН Ты стал слишком смелый.
Я Я уезжаю в Москву. Поступать в МГУ. А ты можешь сдохнуть на этом диване.
И теперь пора в ванну. Карамзин сдохнет сам. А я уйду, как аквалангист — брюшком к небу, спиной в глубину. Старец, прощай!
Лихо бросаюсь через пожелтевший борт, ноги вверх.
Звук плещущейся воды, не хватает разве лишь криков чаек.
Это кафе чудом уцелело после бомбежки Сочи, скрылось от прицелов олимпийских снайперов под лианами бугенвиллии. Я обнаружил его случайно, когда уже не мог бежать после морга («Вы хорошо знали эту девушку? Где ее документы?»).
Здесь я сел — спиной ко входу, лицом к затянутому листвой окну. Отдохну под ленивым вентилятором и побегу дальше.
— Меню, да?
Я не оборачиваюсь.
— Наверно, не надо. Просто водки. Полстакана. И кусок хлеба.
— Водка теплый у нас, холодильник сломан.
— Тогда целый стакан.
— Хорошо. Ты тоже из Москвы?
— Да.
— Сразу видно.
Голос удаляется, поскрипывая деревянным полом. На смену ему врываются два других, со стороны моря. Продолжают жаркий диалог:
— Вчера Фишка приехал, с утра бухой уже. Стоит внизу в холле, смотрит по сторонам, не понимает вообще, где он.
— Как всегда.
— А там уборщица, полы натирает, на гостей любуется. Ты слушаешь?
— Да, просто меню смотрю попутно.
— И уборщица видит Фишку и говорит: «Ой, а я ж тебя узнала, ты ж етот, артист известный!»
— И что?
— А он ей: «И я тебя тоже узнал! Ты — бабка!»
Борис Мельхиорович смеется, постукивая ладошками по столу в мыльных узорах. Эдвард Булатович вздыхает:
— И ведь отбоя от предложений у него нет. Русские режиссеры — странные люди. Будут мучиться до последнего кадра. Не кино, а Сталинградская битва. Смотри, тут на столе горчица.
— Еще бы! Зря я тебя сюда вел, что ли? Все, как в наше время: с коричневой корочкой.
— Аутентично.
— Не умничай. Давай-ка ее на черный хлебушек намажем, посолим и сожрем спокойно. Вот где счастье-то, Эд! Ни одна скотина не смотрит тебе в рот и не напишет потом в газете: «За ужином хозяева фестиваля устало ели устриц, доставленных с Лазурного берега…
— …и запивали холодным шабли урожая тысяча восемьсот двадцать пятого года». Ты прав. Полчаса свободы у нас есть…
— …сказал он, сверкнув золотыми часами с турбийоном.
— С хуйоном! Давай, Боря, еще пельменей вот этих закажем, а?
Не дождавшись стакана водки, хрипя от внезапной головной боли, спиной к двум весельчакам в белых сорочках, я крабом пробираюсь к выходу, почти наощупь; бьюсь об угол стола, роняю на пол салфетки, одна прилипает к сандалии, избавиться от нее невозможно будет до самой смерти, это белая метка.
Но пора вернуться в блистательный эпизод самоубийства.
Согнутый в наполненной ванной недописанным иероглифом, вверх тормашками, руками-щупальцами я пытаюсь, держа себя за окостеневшие ноги, подтянуться, вывернуться, выбраться — но невозможно. Застрял. Голова над водой озирается лохнесским испуганным взглядом.
Чаплин бы рад был такому ржавому гэгу.
Куда теперь дальше? Вода уже у бортов, но я не могу дотянуться до крана. Прочь с экрана! Бычок-неудачник. Хиштербе.
ТИТР НА ФОНЕ ВОДЫ, ЛЬЮЩЕЙСЯ НА ПОЛ. Сколько времени он провел в таком положении, неизвестно.
В ванную входит суровый старец, оглаживает бороду, смотрит на полупокойного голубыми глазами, пальцем грозит:
— Ах, ешь твою мать! Ты что же творишь?
— Вы — Федор Кузьмич?
— Я? Ты что, парень? Я сосед снизу. Ты меня залил.
— Помогите мне выбраться отсюда. Пожалуйста.
Спустя сорок три минуты.
На тусклой кухне, за нетрезвым столом мы сидим с моим спасителем. Я в той же мокрой одежде, в которой хотел погрузиться на кровавое дно. Старик качает головой, завершает монолог:
— Так что, сценарист, не валяй дурака. Дали в морду — не страшно, а даже полезно. Денег нет — тоже надо такое пережить. Что там еще? Жена стерва? Нормально. Я с такой уже сорок четыре года живу. Сын у меня погиб. Ты думаешь — в Чечне? — Старик смотрит на меня, усмехается. — Нет, он бандитом был. Полюбила его девка одна. Хорошая девка, сил нет. Знаешь, прям как с иконы сошла, прости Господи. И полюбила. Она знала, чем он занимается, и никогда слова не сказала. Он людей убивал, а она ему ужин готовила и ждала. О сюжет! Встречала, кровь чужую с ботинок вытирала и на стол накрывала. Красиво так, со свечами, с салфетками. Затейница вообще, рукодельница. Шила хорошо. Сама им в спальню абажур смастерила… Однажды сын заказ получил на бизнесмена одного крупного, дали ему задаток огромный. И пошел он в загул. По пьяни врезался на машине своей… на этом, на «бумере». Никакие подушки не спасли. И что она?
— Что?
— А она… — Старик вглядывается в закатный пейзаж на моем лице. — Ну и рожа у тебя, сценарист, ох, рожа! Слушай, не пиши ты всякую муть, пиши сериалы. Так, чтобы не оторваться. Сосед плохого не посоветует.
— А что она?
— Так я тебе и сказал. Сам додумай. — Старик поднимается, кашляет. — Наступил новый век. Страна скоро рухнет на хер. А никто не должен этого заметить. Вот как надо писать!
Я вернулся. Бенки, Брунгильда, слышите меня? Вы здесь? Я вернулся. Лягарп остался там, в комнате отеля, на угасшей подушке, я не смог его спасти. Простите.
Я вернулся лишь потому, что мне надо сделать еще кое-что. Исполнить свою клятву под звездой. Я должен написать про Федора Кузьмича. Два ШШ с их смертоносным обаянием совсем не при чем, они растворились в морской соли. Я даже ни могу вспомнить, поставил ли я вензель Ende под договором. Был ли договор? 30 процентов аванса, 20, 10? Три, два, один, ноль. Ниже ноля.
Федор Кузьмич, старец сибирский, я поймаю тебя. Выходи, подлый трус.
Я беззвучно проникаю в ванну. Не включаю свет. Оборванная полоса желтого рулона почти касается пола, флаг поверженной армии. Я поворачиваю кран и с тахикардическим рвением умываю руки.
И сталкиваюсь взглядом с ними. Они застыли, молчат. Два крема, в баночке и тюбике, и зубная щетка цвета майской травы.
Десять лет назад. Кабинет Требьенова на «Мосфильме».
Требьенов развязывает тесемки папки цвета отставной шинели, выдерживает шутовскую паузу и откидывает картонную крышку:
— Смотрите, что я нашел у нее!
— У кого?
— У Ами.
— Где нашел?
— В запретной комнате.
— Ты туда влез?
— Я же секретарь. Но все это неважно. Смотрите!
Пальцами энтомолога он тянет под настольную лампу фотографию с двумя улыбающимися призраками.
— Узнаете? — Глядит на меня сквозь торжественные очки.
Всматриваюсь в коричневые лица девушек. Они стоят с очаровательной помпезностью около подъезда. Держат диафрагму. Видимо, осень начала 50-х. Одна высокая, в костюме (длинная юбка, пиджак) из проверенной временем ткани, которую можно пощупать даже сейчас, пощекотать исторический нерв. Другая — в смутном полосатом платье и белом платке на плечах. Эту счастливую девушку я узнаю. Ами. Молодая Ами. Она много показывала мне своих фотографий. Хотя именно эту я никогда не видел.
Легкая перебивка. Ами и тугой фотоальбом на ее бархатном столе. Каждая фотография распята по четырем углам в полукруглых прорезях. Ами стучит пальцем по своему бывшему лицу:
— Или эту лучше мне на памятник? Кстати, такую я и подарила Сталину. Она ему очень понравилась. Может, она и сейчас лежит в его тумбочке на Ближней даче.
Я не выдерживаю сталинской репрессии:
— Ами, а что же он сказал вам, когда вы спросили его про акцент?
— Я — спросила? Его?
— Почему он не избавится от грузинского акцента.
— Ах, вы про это! Он ответил очень интересно. Очень. Про это я обязательно напишу в своей книге.
— Что? Скажите, пожалуйста!
— Он ответил… — Ами ласкает брошь, рубиновую «А». — Он ответил: «Нэ хочу».
Но теперь, то есть не теперь, а тогда, за слоями сепии, эта брошь не на Ами, она на другой, таинственной гордячке, что рядом на фотографии.
— Узнаете? — Требьенов улыбается.
— Да. Ами.
— Нет, рядом с ней.
— Какая-то девушка.
— Не какая-то. Это ваша бабушка.
— Что за ерунда?
— Слушайте, у меня взгляд режиссера. Я не могу ошибиться. Вы куда?
— Ами!
Она в коридоре, под люстрой угасает все та же брошь. Ами улыбается, но так, как я не видел еще никогда — одним углом рта, словно тщится радоваться, но получается лишь неудачный эскиз.
— Вы очень взволнованы, юноша. Снимите курточку. Сильвер мне сказал — вы будете писать для него сценарий.
— Я ему еще ничего не обещал.
— Но он уверен.