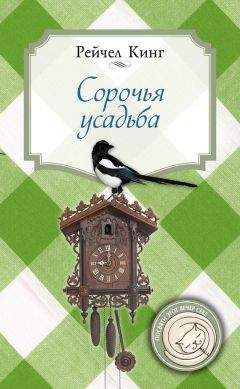Он поднимает ей руку, режет рукав. На бледной коже запястья ярко проступает обвившаяся вокруг змейка. Он подносит ее руку к губам и целует татуировку, задержав губы на холодной, как рыба, коже.
На память ему приходит утро, когда Дора в лучах утреннего солнца лежала на кровати, с восторгом смотрела на свое тело, нисколько его не стесняясь.
— Как это красиво, какие яркие краски, — говорила она. — Интересно, они когда-нибудь побледнеют?
— Нет, если будешь закрывать, — отвечал он. — На солнце они бледнеют.
— А когда я постарею, — спрашивала она, поглаживая татуировки, — они станут дряблыми? Покроются морщинами?
— Все мы постареем, любовь моя, — отвечал Генри, протягивая руку и лаская ее. — Твое красивое тело тоже изменится, и эти рисунки вместе с ним.
Она перевернулась на живот и засмеялась.
— Тогда я не хочу стареть, — сказала она. — А когда умру, ты поставь меня на полку, рядом с твоими птицами, и я всегда буду с тобой, юная и гладенькая, и мои наколки будут всегда яркими и красивыми.
Как больно теперь вспоминать об этом. Дора, конечно, не могла этого предвидеть, ни в коем случае. А татуировки принадлежат только ей и ему, никому больше. Он знает, что стоит объявить о ее смерти, будет дознание, и ее разрисованное тело станет для всех притчей во языцех. Разразится скандал. Нет, он не станет порочить в здешнем обществе ее имени и ее репутации. Самому ему на репутацию наплевать, но она здесь родилась, и здесь навсегда останется память о ней. Надо подумать и о ее бедном отце; узнав о смерти своего единственного ребенка, он может не выдержать и умереть от горя.
Итак, решено. Он скажет всем, что она утонула, да-да, он собственными глазами видел, как ее смыло бурным потоком реки; он пытался спасти жену, но бешеная река не захотела возвращать ее. Он бежал за ней что было сил, но воды реки мчались слишком быстро, и он не смог догнать ее. Они поймут, все они теряли скот в подобных обстоятельствах. Потом находили их тела, раздутые и разложившиеся, зацепившиеся за какую-нибудь ветку дерева или плавающие где-нибудь в омуте со стоячей водой за много миль вниз по реке, но ведь бывало, что они исчезали без следа. Возможно, обглоданные угрями, их кости до сих пор лежат на илистом дне реки или унесены в море. Такой станет и судьба Доры.
С трудом он переворачивает ее тело, перерезает шнуровку и снимает корсет. Потом сорочку. Татуированная гуйя словно оживает, ее красные и черные пятна ярко выделяются на обескровленной коже. Это поистине настоящий шедевр. Он слишком хорош, чтобы закапывать его в землю. Он смотрит на татуировку, и в памяти его одна за другой всплывают картины, как он выследил и убил эту птицу, дал ей новую жизнь и привез домой, чтобы подарить Доре. Как гудела электрическая иголка, выводя рисунок на ее коже, как ударил в ноздри острый запах ее выступившего от волнения пота, когда он взял ее за руку. Как несколько дней после этого у нее кружилась голова, словно она вместо воды пила шампанское.
Он выловил ее тело на мелководье неподалеку от брода. Увидев, что она неподвижно лежит в воде лицом вниз, он утратил последнюю надежду. Сел рядом с ней прямо в ледяную воду, все еще не веря собственным глазам. Всего час назад она была живой и теплой, он чувствовал на себе ее горячее дыхание, когда она кричала на него. Как ей могло прийти в голову, что причина их смерти он, ведь это всего лишь медицинские экспонаты? Что хранил их в своей коллекции он потому, что у него злое сердце? Женщина, она просто не поняла — но почему он позволил ей убежать из дома, почему допустил это… как теперь ему жить? Одному. Без нее.
Когда она выбежала из дома, он пошел за ней, но не очень-то торопился. Он звал ее, кричал ее имя сквозь дождь, но если она и слышала его, то не остановилась. Ах, ему бы поторопиться, может быть, он помешал бы сорокам напасть на нее. Он видел, как целой стаей они кружили вокруг нее, беспомощно смотрел, как она упала в воду, как бурным потоком ее пронесло мимо. Но уже тогда ее легкие, скорей всего, были уже наполнены водой, и она потеряла сознание.
Дрожа, он вытащил ее из реки и погрузил на лошадь. Ему удалось незаметно внести ее в дом, никто ничего не видел. И вот теперь он стоит перед ней, держит в руках клочья ее платья, нагое, холодное тело ее лежит перед ним на рабочем столе.
Он снова переворачивает ее на спину и смотрит на ее обнаженный живот, на выколотую птичку колибри. И тут замечает в ней что-то странное. Непривычное для взгляда. Она очень исхудала, пока он был в путешествии, сейчас это особенно видно, но живот у нее выпирает, даже когда она лежит на спине, вздымается над ее бедрами, мягкий и полный. Не может быть! Споткнувшись, он делает шаг назад, оглядывается, шаря по комнате взглядом, чем бы прикрыть ее тело, и видит старую простыню, которую он рвал на тряпки. Набрасывает на нее эту простыню, и рука его невольно ложится ей на живот; он пытается представить себе эту новую жизнь, которая, возможно, еще недавно развивалась здесь. Глаза его застилают слезы.
— Что я наделал, — бормочет он.
Генри снова вспоминает, каким исполненным глубокого отчаяния было ее лицо, когда он пытался ей объяснить, откуда взялись его образцы в банках; можно было догадаться, что чувство ее во многом было продиктовано процессами, происходящими в ее собственном организме. Неудивительно, что она посчитала его чудовищем. Ах, если б знать, он бы сделал все, чтобы Дора ни за что не добралась до этих злосчастных банок.
Но теперь поздно. Теперь она мертва, как и ее ребенок. Сейчас ночь, и он понимает, что уже ничего не изменишь. Генри выходит из комнаты, предварительно проверив, что все шторы плотно закрыты, и запирает за собой дверь.
Сон его лихорадочен и прерывист, его бросает то в могильный холод, то в жар, от которого тело покрывается липким потом. Окно дребезжит от сильного ветра, словно кто-то пытается проникнуть внутрь; он просыпается, в испуге видит рядом пустую постель, и ему кажется, что это Дора стучит в окно и умоляет его впустить. Неверными шагами он подходит к окну, раздвигает шторы и распахивает окно.
— Дора! — кричит он в темноту, но ему отвечает один лишь ветер.
Он вдруг вспоминает, что в кабинете таксидермии лежит ее холодное тело с припухшим животом, тело беременной женщины, и грудь его сжимается от ужаса и жалости.
— О, Дора Коллинз, да не упокоится душа твоя, да будет она преследовать меня все мои оставшиеся дни!
Ветер отвечает ему долгим, заунывным свистом.
— Дора, — повторяет он, на этот раз тише.
Рука его ложится на оконную раму; помедлив, он закрывает окно и снова плотно задергивает шторы.
Он знает, что надо делать.
В церквушке на холме по Доре служится заупокойная месса, хотя тела самой усопшей при этом нет. Отец Доры принимает новость очень тяжело. Узнав, что она утонула, он отказывается верить в ее гибель, и, миля за милей, обследует каждый дюйм реки; он и не подозревает, как было все на самом деле.
Когда Коллинз спрашивает, знал ли он, что она беременна, Генри лжет, отвечает, что знал. А ведь могло быть все по-другому! Он отворачивается, не в силах смотреть на убитого горем отца.
Во дворе церкви устанавливают памятный камень, чтобы те, кого она любила, могли приходить и поминать ее, молиться о ее душе, отошедшей в лучший мир.
А в это время Дора лежит в рабочем кабинете Генри. Когда все ритуалы заканчиваются, отбывает последний гость (все сидели в гостиной и пили шерри, не подозревая о том, что она лежит за стенкой), Генри наконец-то может побыть с ней наедине.
Он не станет сохранять ее тело полностью, это было бы нелепо. На ней нет шерсти, как на зверях, или перьев, как на птицах, кожа ее на костях ссохнется, как у египетских мумий, потемнеет и станет жесткой, обтянет череп, и прекрасное лицо ее обезобразится. Но вот рисунки на ее коже… о, это совсем другое дело. Он похоронит ее останки вместе с неродившимся ребенком рядом с памятным камнем, и никто об этом не узнает. Но татуировки он сохранит, как она сама этого хотела, и она навсегда останется с ним. Он будет хранить это в тайне, хранить всю оставшуюся жизнь. Это будет жемчужина его коллекции диковинок. И, в конце концов, она сведет его с ума, в этом сомневаться не приходится. Что ж, пусть будет, как будет.
В холодной комнате, заперев дверь на ключ, он берет в руку скальпель и начинает работать.
— Я пойду и поговорю с ним, — сказал Чарли, но еще долго не двигался с места, переминаясь у телефонного столика с ноги на ногу.
— Нет, — сказала я. — Пойду я. А ты оставайся там и не спускай с нас глаз.
Я отбросила старое теплое одеяло и кое-как встала с дивана.
Я знала, что эту битву должна выиграть я. Не желаю, чтобы меня вечно спасали, ни Чарли, ни Сэм, ни Хью. С этим противником я должна встретиться лицом к лицу сама.
Покачиваясь на каблуках, Джош наблюдал, как я иду к нему, и встретил меня молча, лишь шевеля бровями и плотно сжав потрескавшиеся губы. Вот уже двадцать лет я не подходила к нему так близко. Лицо его еще сохранило черты, знакомые мне с юности, но под воздействием времени и непогоды высохло и покрылось морщинами. Тронутые сединой волосы были все такие же густые. Ему теперь было уже под сорок, и в нем не осталось и следа былой неуверенности в себе, когда он был простым рабочим на ферме, юношей, потерявшим родителей. Теперь передо мной стоял человек, на плечах которого лежит ответственность и за большое хозяйство, и за себя, и за свою семью.