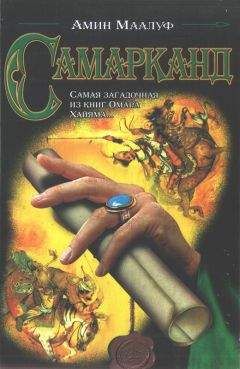Не дав согласия, я ограничился тем, что попросил о встрече с Говардом. Рыжая борода Его Преподобия озарилась победным блеском глаз. Он вскочил.
— Следуйте за мной, кажется, я знаю, где его искать. Понаблюдайте за ним со стороны и вы поймете меня, разделите мое смятение.
Книга четвертая.
Поэт в океане
Мы — послушные куклы в руках у Творца!
Это сказано мною не ради словца.
Нас на сцену из мрака выводит Всевышний
И швыряет в сундук, доведя до конца.
Омар Хайям
Сад тонет в охряных сумерках. Народу собралось тьма. Как тут найти Баскервиля? Лиц не разобрать. Я прислонился к дереву и стал ждать. Оказалось, я попал на представление. Порог освещенного изнутри домика служил импровизированными подмостками. Розе-хван, рассказчик и плакальщик, взывает к чувствам правоверных, исторгая из них слезы, вопли и даже кровь.
Из темноты выступает человек с обнаженным торсом и босыми ногами, руки его оплетены цепями, он подбрасывает цепи в воздух, нагибается и ловит их спиной. Железо гладкое, и потому кожа выдерживает до тридцати — пятидесяти ударов, после чего появляется первая кровь, вскоре брызжущая во все стороны. В этом театре присутствует самая настоящая, а не изображаемая боль, а тысячелетние страсти разыгрываются наяву.
Самобичевание набирает силу, зрители тяжело дышат в такт исполнителю, удары следуют один за другим, рассказчику приходится повышать голос, чтобы перекрыть удары цепей о человеческую плоть. И тут на сцену из-за кулис выступает еще один актер, он потрясает саблей в сторону зрителей и принимает угрожающий вид, чем навлекает на себя проклятия. Вскоре в него уже летят камни. Но он недолго остается на сцене один, вскоре выходит другой персонаж. Толпа принимается вопить что есть мочи. Даже я не могу сдержать крика, видя, как тот, с саблей, отсекает этому голову.
Я в ужасе оборачиваюсь к пресвитеру, он холодно улыбается в ответ и шепчет:
— Старый прием: используют мальчика или коротышку. На голову ему водружают отрезанную баранью голову, перевернув ее кровоточащей стороной кверху, и надевают белую простыню с дыркой. Как видите, иллюзия полная. — Он достает из кармана трубку.
Обезглавленный подпрыгивает, дергается и катается по сцене, после чего затихает. Затем на сцене появляется весьма странный субъект. Прежде всего бросается в глаза, что он весь в слезах.
Ба, да это же Баскервиль!
Я снова взглядом вопрошаю пресвитера, тот ограничивается загадочным движением бровей.
Говард одет в европейское платье, в котелке, и оттого, несмотря на трагическое действо, получается комический эффект.
Толпа стонет, ревет и, насколько я могу судить, ни один из присутствующих не улыбается. Кроме пастора, который наконец-то снисходит до объяснения:
— В этих погребальных представлениях всегда есть один европеец, и, как ни странно, он на стороне сил добра. Традиция требует, чтобы французский посол при дворе Омейядов был взволнован смертью Хусейна[75], главного страдальца шиитов, и так горячо сочувствовал тому, что его самого предают смерти. Разумеется, не всегда под рукой есть европеец, тогда приглашают турка или светлокожего перса. Но с тех пор как в Тебризе появился Баскервиль, только он и зван на эту роль. Исполняет он ее отменно. И плачет взаправду!
Тем временем человек с саблей вернулся на сцену и стал шумно скакать вокруг Баскервиля. Тот застыл на месте, щелчком сбросил с головы цилиндр — светлые волосы были тщательно уложены на косой пробор — и медленно, как кукла, стал падать — сперва на колени, затем навзничь. Луч света выхватил его детское заплаканное лицо. Чья-то рука бросила в него горсть лепестков.
Я перестал слышать вопли и стоны и, устремив взор на своего друга, со страхом ждал, поднимется ли он. Мне казалось, что спектаклю не будет конца. Поскорее бы встретиться с Баскервилем!
Уже час спустя мы сидели в миссии за столом и ели суп с зернами граната. Пресвитер оставил нас одних. Мы оба были смущены. Глаза Баскервиля были еще красны.
— Я медленно возвращаюсь в свою западную душу, — произнес он извиняющимся тоном с грустной улыбкой.
— Не торопись, век еще в самом начале.
Он кашлянул, поднес чашу с горячим супом к губам и вновь ушел в себя. Некоторое время спустя он повел рассказ:
— Когда я сюда приехал, я все никак не мог понять, как это так — бородатые рослые мужчины убиваются по поводу преступления, совершенного тысячу двести лет тому назад. А теперь понимаю. Персы живут прошлым, потому как прошлое — их родина, а настоящее — чужая страна, где ничто им не принадлежит. Все, что для нас символизирует современную жизнь, освобождение личности, для них — символ иноземного владычества: дороги — это Россия, рельсы, телеграф, банк — Англия, почта — Австро-Венгрия…
— …а преподавание наук — господин Баскервиль из пресвитерианской миссии, — закончил я.
— Верно. Какой выбор есть у жителей Тебриза? Отдать сына в медресе, где он десять лет будет жевать одну и ту же жвачку из непонятных фраз, как и его предки еще в двенадцатом веке, или привести его ко мне, где он получит образование, не отличающееся от американского, под сенью креста и звездчатого флага. Мои ученики со временем станут самыми лучшими, изобретательными, полезными в своей стране, но как помешать другим считать их вероотступниками? С первых дней своего пребывания здесь я задавался этим вопросом и только во время одного из таких вот представлений нашел ответ.
Я смешался с толпой, вокруг меня раздавались стенания. Увидя эти несчастные заплаканные лица, глядя в эти полные ужаса глаза, я проникся всею обездоленностью Персии с ее истерзанной душой, не снимающей траур. Я и не заметил, как слезы сами полились у меня из глаз. Зато заметили другие, поразились и подтолкнули меня к сцене, поручив роль посланника. На следующий день ко мне пришли родители моих учеников, счастливые тем, что отныне знают, что отвечать тем, кто их упрекает: «Я доверил сына учителю, оплакивающему имама Хусейна». Кое-кого из местных священников это раздражает, их враждебность объясняется моими успехами, они предпочитают, чтобы иностранцы оставались иностранцами.
Теперь я лучше понимал своего друга, но все же был настроен скептически.
— Так, значит, по-твоему, решение проблем Персии в том, чтобы смешаться с толпой плакальщиков?!
— Этого я не говорил. Слезы — не выход. Но и не уловка. Это всего лишь искренний жест сострадания, наивный и беззащитный. Нельзя принудить себя лить слезы. Единственно важное — это не относиться с презрением к бедам другого. Когда они увидели, что я плачу и не взираю на их святыни с высоты своего безразличия, то тут же пришли ко мне и доверительно сказали, что плакать бесполезно, что Персия не нуждается в плакальщиках, своих хватает, и что лучшее, что я могу для них сделать, — это дать сынам Тебриза современное образование.
— Золотые слова. Я собирался сказать тебе то же самое.
— Да вот только если б я не заплакал, ко мне бы не пришли. Не раздели я их страдания, мне не было бы позволено говорить ученикам, что режим шаха насквозь прогнил, да и их священники не лучше!
— Так ты говоришь это на уроках?!
— Да, говорю! Я, безбородый американец, простой школьный учитель, бичую и корону, и тюрбан, и мои ученики со мной соглашаются, их родители тоже. Только вот старейшины недовольны! — Видя мое замешательство, он добавил: — Я рассказал ученикам о Хайяме, сказал им, что для миллионов американцев и европейцев «Рубайят» — настольная книга, они заучивают наизусть переводы Фицджеральда. Однажды ко мне пришел дед одного ученика взволнованный тем, что рассказал ему внук, и обратился ко мне с такими словами: «Мы тоже уважаем американских поэтов!» Разумеется, он не смог бы назвать ни одного, но это не важно, таким образом он выразил мне свою признательность и гордость. К сожалению, не все родители таковы, один из отцов пришел жаловаться и в присутствии пастора бросил мне: «Хайям — пьяница и нечестивец!» Я ответил: «Говоря так, вы не оскорбляете Хайяма, а восхваляете пьянство и нечестие!» Преподобный чуть не лишился чувств.
Говард рассмеялся, как обезоруживающе искренний и неисправимый ребенок.
— Словом, ты подтверждаешь все, в чем тебя обвиняют! К тому же ты еще и «сын Адама»?
— Пастор тебе и это сказал? Однако, как я погляжу, вы уделили моей персоне немало времени.
— Ты — наш единственный общий знакомый.
— Не стану от тебя ничего скрывать, совесть моя чиста, как дыхание новорожденного. Два месяца тому назад ко мне пришел один человек. Усатый великан, очень застенчивый. Спросил, не могу ли я прочесть лекцию в энджумене, членом которого он состоит. Тебе ни за что не догадаться, на какую тему! Теория Дарвина! В стране происходит брожение, мне показалось это весьма симптоматичным, и я согласился. Собрав все, что можно найти об ученом, я сперва изложил постулаты его противников, и хотя, вероятно, это было скучно, меня слушали затаив дыхание. С тех пор я читал лекции и в других клубах на самые разные темы. В этих людях огромная жажда знания. Они же самые ярые сторонники конституции. Бывает, я заглядываю к ним, чтобы быть в курсе последних событий в Тегеране. Тебе не мешает с ними познакомиться, они мечтают о том же, что и мы с тобой.