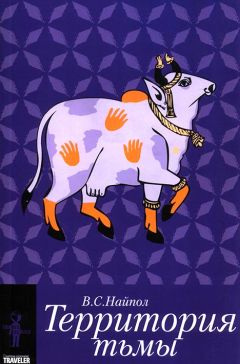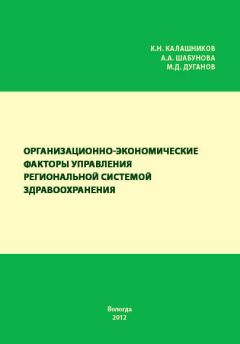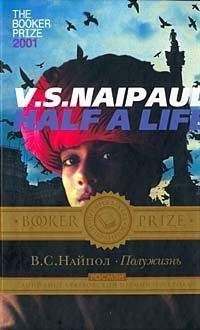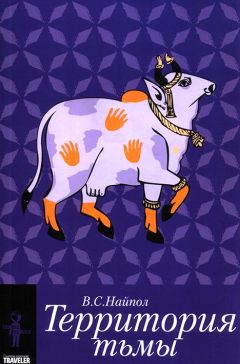Оставшийся путь был легким. Ранним утром мы добрались до лесов Чанданвари, а к полудню уже показался Пахальгам, и мы вновь очутились в зеленом царстве полей, лесов и земли. Теперь дорога все время шла вниз. Я слез с пони и стал спускаться прямо по склону, срезая длинные изгибы и повороты пологой дороги для джипов, и вскоре сильно обогнал Азиза и остальных. Азиз не пытался нагнать меня; и даже потом, когда мы снова встретились внизу, на покрытой щебенкой дороге, и прошли мимо автобусной станции и туристического бюро, он не сказал ни слова про отсутствующего гхора-уоллу. А я не напоминал ему. Азиз соскочил с пони, чтобы без приглашения — и не встречая отпора — присосаться к чужому кальяну: он уже отбросил роль надменного мажордома. Мы ненадолго потеряли его из виду, а когда он снова появился, то нес кучку гороха в подоле рубахи, завязанной спереди таким узлом, что теперь у него перед животом было нечто вроде подноса, который не требовалось поддерживать. Превращение из мажордома в гостиничного слугу было завершено. Даже термоса при нем не было: его, как и обувь мистера Батта, он загубил.
На нашей базе, под навесом в тени дерева, нас уже поджидал гхора-уолла в зеленой тюбетейке. При виде меня он немедленно принялся скулить и плакать: это было номинальное самоуничижение, номинальный плач — без слез, без чувств, даже без намека на настоящее огорчение. Он подбежал ко мне, бухнулся на колени и обхватил мои ноги своими могучими руками. Вокруг нас с удовлетворенным видом собрались другие погонщики. Азиз с узлом гороха, выпиравшим спереди живота, открыто усмехался, глядя на гхора-уоллу.
— Он бедный человек, саиб.
Что же это? Неужели это говорит Азиз — после всего, что я слышал от него о гхора-уолле?
Гхора-уолла зарыдал еще громче.
— Он иметь жена, — сказал Азиз. — Он иметь дети. Вы не докладывать туриазм, саиб.
Гхора-уолла провел ладонями по моим ногам и хлопнулся лбом об мои башмаки.
— Он очень бедный человек, саиб. Вы не лишать его платы. Вы не отбирать его разрешение.
Крепко держась за мои колени, гхора-уолла терся о них лбом.
— Он нечестный человек, саиб. Он проклятая свинья. Но он бедный. Вы не докладывать туриазм.
Ритуал продолжался — не имея, казалось, никакого отношения ко мне.
— Ладно, ладно, — сказал я. — Я не буду на него докладывать.
Гхора-уолла немедленно вскочил на ноги, и на его широком крестьянском лице не обнаружилось ни следа тревоги или облегчения: исполняя эту роль, он просто работал. Он деловито отряхнул пыль со штанов, вынул из кармана несколько бумажных рупий, отсчитал пять и у меня на глазах передал их Азизу.
Такова была цена Азизова заступничества. Может быть, они пришли к взаимному соглашению еще вчера? Или спланировали все это заранее, в самом начале? Неужели Азиз столько стонал и жаловался лишь ради этого — ради пяти лишних рупий? Это казалось невероятным — ведь тогда, под Писсу-Гхати, он по-настоящему страдал, — но теперь я уже совсем не был уверен, что знаю Азиза. Зато он знал меня как облупленного: он взял это подношение — мои, в конечном счете, деньги — в моем присутствии. В течение всего путешествия он всячески подчеркивал мое достоинство; должно быть, он запугал гхора-уоллу моей влиятельностью. Но истинный его расчет был прост: ведь на самом деле я безвреден. Поняв суть его расчета, я почувствовал, как моя воля слабеет. Нет, я не стану — просто из гордости не стану устраивать ему сцену; все уже сказано и сделано, а Азиз — мой слуга. Будет гораздо спокойнее сохранить верность моему характеру — такому, каким он его счел, — до возвращения в Шринагар.
Пять рупий, пересчитанные, исчезли в одном из Азизовых карманов. Момент, подходящий для выговора, прошел. Я ничего не сказал. Его расчет в итоге оказался верным.
И тогда гхора-уолла, ведя своего пони под уздцы, снова подошел ко мне.
— Бакшиш? — сказал он и протянул руку.
* * *
Подсолнухи в саду увяли, сделавшись эмблемами угасающих солнц, их огненные язычки обмякли и сморщились. Моя работа была почти закончена; скоро настанет пора уезжать. Нужно было нанести прощальные визиты. Вначале мы отправились к нашим друзьям в Гульмарг.
— У нас тут тоже были приключения, — сообщил Ишмаэль.
У них всегда были приключения. Они притягивали всякие драмы. Они интересовались искусством, и у них вечно гостили писатели и музыканты.
— Ты случайно не встречал во время паломничества девушку по имени Ларэйн?
— Американку?
— Она говорила, что собирается в Амарнатх.
— Удивительно! Она что — тоже останавливалась здесь?
— Они с Рафиком едва с ума нас не свели.
Это приключение (рассказывал Ишмаэль) началось в Шринагаре, в индийской кофейне на Резиденси-роуд. Однажды утром Ишмаэль познакомился там с Рафиком. Рафик был музыкантом. Он играл на ситаре. В Индии обучение на музыканта было делом долгим и суровым. И хотя Рафику было уже около тридцати лет, и хотя он, по словам Ишмаэля, был очень хорошим исполнителем, он еще не сделал себе имени: он только-только начал давать сольные концерты на местных радиостанциях. Именно для того, чтобы отдохнуть перед очередным таким выступлением, Рафик приехал на две недели в Кашмир. Денег у него было мало. Ишмаэль, щедрый и импульсивный, как всегда, пригласил Рафика, которого впервые увидел в то утро, пожить у него в бунгало в Гульмарге. Рафик подхватил свой ситар и последовал за ним.
Вначале все шло хорошо. Рафик оказался в гостях у супругов, которые прекрасно понимали, что такое артистичная натура. Они были в восторге от его музыки, а он вдохновенно репетировал. Уклад жизни в доме тоже благоприятствовал творчеству: обедали в полночь — после музыки, разговоров и выпивки. Завтракали в полдень. Затем обычно приходил массажист, приносивший свое оборудование в небольшой черной коробке, на которой было надписано его имя. Потом — если не было дождя — прогуливались среди сосен. Иногда собирали грибы, а иногда шишки — чтобы от них в костре вспыхивали благовонные искры.
Но вот однажды все переменилось.
Они пили кофе на солнечной лужайке, когда на тропе внизу показалась белокожая девушка. Она спорила с кашмирцем-гхора-уоллой: одна, без спутника, она явно попала в беду. Ишмаэль отправил Рафика разобраться, в чем дело. И в это мгновенье отпуск Рафика был погублен; в это мгновенье сам он пропал. Когда минуту или две спустя он вернулся, его гостеприимцы едва узнали в нем того кроткого, вежливого ситариста, с которым недавно собирали грибы. Он стал словно одержимым. За то короткое время, пока он улаживал спор с погонщиком, он успел и покорить, и сдаться: между ним и девушкой вспыхнула страсть, и эта страсть была взрывоопасной. Рафик вернулся не один. Он привел с собой эту девушку — Ларэйн. Она останется с ними, заявил он. Они не возражают? Не смогут ли они приютить и ее?
Ишмаэль с женой ошеломленно согласились. В тот же день они предложили прогуляться, чтобы показать своей новой гостье вершину Нанга-Парбат (километрах в шестидесяти пяти от Гульмарга), на которой снег блестит, как масляная краска. Вскоре Рафик и Ларэйн отстали, а потом и вовсе скрылись из виду. Ишмаэль и его жена немного расстроились. Молчаливо и застенчиво — как будто это они были гостями, а не хозяевами, — они продолжали прогуливаться, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться видами. Через некоторое время Рафик и Ларэйн догнали их. На их лицах не было ни удовлетворения, ни усталости: оба пребывали в истерике. Они ссорились, и их ярость была нешуточной. Вскоре они принялись осыпать друг друга ударами. У обоих на лицах уже красовались синяки и царапины. Она лягнула его. Он застонал и отвесил ей пощечину. Она закричала, ударила его своей сумкой, потом снова лягнула, и он оступился на поросшем колючками склоне. Исцарапанный в кровь, он с воем поднялся, выхватил у нее сумку и зашвырнул далеко вниз, в долину, где она пролежит до тех пор, пока новые снега, растаяв, не смоют ее. Тут девушка уселась на дорогу и расплакалась, как ребенок. Его ярость разом утихла. Он приблизился к ней, и она покорилась ему.
Когда они вернулись в бунгало, Рафик выместил всю свою страсть на ситаре. Он играл, как обезумевший; его ситар завывал и завывал. В ту же ночь они снова поссорились. Их крики и вопли привлекли внимание полиции, которая всегда была начеку, готовясь дать отпор пакистанским налетчикам, в прошлом году совершившим грабительский набег на склоны Кхиланмарга.
Теперь оба были изукрашены синяками и шрамами; их опасно было оставлять наедине. Ларэйн, к которой то и дело возвращалась вменяемость, несколько раз уходила из бунгало. Иногда Рафик приводил ее обратно; иногда она возвращалась сама, пока он извлекал жалобные стоны из ситара. Ишмаэль и его жена не могли больше выносить всего этого. Во вторую ночь, когда Ларэйн в очередной раз исчезла неведомо куда, они попросили Рафика покинуть их дом. Он положил ситар себе на голову и собрался идти. Такая кротость, напомнившая о прежнем Рафике, и вид музыканта, уносящего свой инструмент, растрогали хозяев: они попросили его остаться. Он остался. Опять вернулась Ларэйн. Все началось сначала.