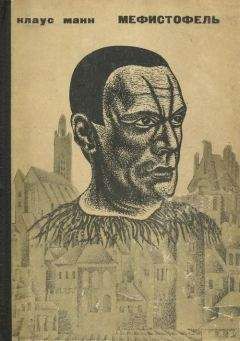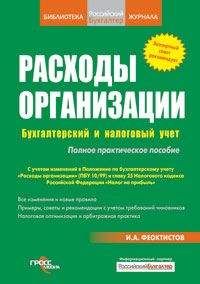Миклас молчал, сжимал кулаки и отворачивался, чтобы никто не видел слез у него на глазах.
Час спустя ему надо было репетировать сцену с Хефгеном – Мефистофелем. В смиренной позе надо было приблизиться к ученому, который на самом деле был чертом, и сказать:
Я здесь с недавних пор и рад
На человека бросить взгляд,
Снискавшего у всех признанье
И кем гордятся горожане.
Голос ученика звучал сипло и перешел в стон, когда на сбивающие с толку мудрености и презрительные софизмы замаскированного сатаны юноша отвечал:
Час от часу не легче мне,
И словно голова в огне.
На премьере «Фауста» в Государственном театре присутствовал и премьер-министр, генерал авиации в сопровождении своей приятельницы Лотты Линденталь. Спектакль начался с пятнадцатиминутным опозданием: могучий властелин заставил себя ждать. Из его дворца позвонили, что его задерживает совещание с министром рейхсвера. Но артисты шептались по уборным, что он, как всегда, просто еще не управился со своим туалетом.
– Ему ведь всегда требуется целый час на то, чтобы переодеться, – хихикала исполнительница роли Гретхен, настолько светловолосая, что могла себе позволять небольшие вольности. Впрочем, явление высокой четы было обставлено с подчеркнутой скромностью. Премьер-министр держался в глубине ложи, пока в зале был свет. Лишь в первых рядах партера его заметили и с благоговением смотрели на разукрашенную форму с пурпурным воротником и широкими серебряными манжетами и на блестящую бриллиантовую диадему в волосах высокогрудой, светловолосой, как сноп пшеницы, дамы. Лишь когда поднялся занавес, премьер-министр сел, причем послышалось кряхтение, ибо столь жирную массу нелегко как следует уместить на относительно узком стуле.
Во время пролога на небе сиятельный зритель делал по обязанности взволнованное лицо. Последующие сцены трагедии и весь ее ход до того момента, как Мефистофель пуделем забрался в рабочую комнату Фауста, показались ему несколько скучноваты. Во время первого большого монолога Фауста он несколько раз зевнул, и даже сцена пасхальной прогулки его не развлекла. Он шепнул на ухо Линденталь что-то, по-видимому, не очень одобрительное.
Зато как оживился всемогущий, когда на сцене показался Хефген – Мефистофель. Когда доктор Фауст воскликнул:
Вот, значит, чем был пудель начинен!
Скрывала школяра в себе собака? —
тут засмеялся и могучий владыка, да так громко и от души, что все это расслышали. Смеясь, лоснящийся здоровяк нагнулся вперед, оперся обеими руками о красный бархат ложи и с этого момента стал с веселым вниманием следить за развитием действия, точнее – за танцевально-ловкой, хитро-грациозной, гнусно-обольстительной игрой Хендрика Хефгена.
Лотта Линденталь, знавшая своего мужа, тотчас поняла: «Вот любовь с первого взгляда. Хефген вскружил голову моему толстяку – о, я его понимаю, даже слишком понимаю. Ведь малый и впрямь волшебник, а в этом черном шелковом костюме, в дьявольской маске Пьеро он еще неотразимее, чем всегда. И забавный, и значительный, и как он прыгает, и какие у него временами грозные глаза, какие глубокие, пламенные, вот хотя бы когда он произносит:
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда.
Тут премьер-министр многозначительно кивнул. Потом, в сцене с учеником, – в которой Ганс Миклас, кстати, отличился скованностью и неуверенностью, – великий муж веселился, словно это был самый смешной фарс. Его хорошее настроение еще поднялось при бурлескной сцене «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге», когда Хефген со злым задором исполнил песню о блохе и в конце концов выбил из стола струи сладкого токайского и пенистого шампанского для пьяных олухов. И уж совершенно ликует толстяк, когда из тьмы ведьминой кухни раздается резкий, звонкий голос князя тьмы:
Не узнаешь? А я могу
Стереть, как твой прямой владыка,
С лица земли тебя, каргу,
С твоею обезьяньей кликой!
Забыла красный мой камзол?
Стоишь с небрежным равнодушьем
Перед моим пером петушьим?
Не видишь, кто к тебе пришел?
Это относилось к ведьме, к страшной карге. И та в ужасе сжалась. Генерал авиации от радости хлопал себя по ляжкам: сверкающая надменность сатаны, кичащегося омерзительным своим чином, его уж и вовсе развеселила. Жирному, хрюкающему хохоту вторил серебристый смех Лотты Линденталь. После сцены «Кухня ведьмы» был антракт. Премьер-министр приказал привести артиста Хефгена к нему в ложу.
Хендрик совершенно побелел и в течение нескольких секунд стоял с закрытыми глазами, когда маленький Бёк передал ему это лестное приглашение. Великий миг настал. Он будет стоять лицом к лицу с полубогом… Ангелика, крутившаяся у него в уборной, принесла ему стакан воды. Он его разом осушил, и вот уже снова обрел способность стервозно улыбаться. И даже смог выговорить: «Значит, все идет как по писаному», – так, словно насмехался над сим важным событием. А у самого губы были белы как мел.
Когда Хендрик вошел в ложу всемогущего, толстяк сидел впереди у барьера и барабанил мясистыми пальцами по красному бархату. Хендрик остался у дверей.
«Смешно, что у меня так стучит сердце!» – подумал он и в течение нескольких секунд молчал. Тут его заметила Лотта Линденталь. Она сладко проговорила:
– Милый, ты разрешишь представить тебе моего талантливого товарища по работе Хендрика Хефгена?
Великан повернулся. Хендрик услышал довольно высокий, жирный и резкий голос:
– А-а-а, наш Мефистофель…
Далее последовал смех.
Еще ни разу в жизни Хендрик не был так смущен, он сам застеснялся своего смятенья и оттого стушевался еще больше. Его помутившемуся взору Линденталь тоже предстала в ином свете. Было ли тому виной ее блестящее ожерелье, или то обстоятельство, что она так явно накоротке со своим громадным господином и покровителем, но только облик ее стал вдруг царственно грозен. На Хендрика она произвела впечатление феи, правда, пышнотелой и ласковой, но отнюдь не безопасной. Ее улыбка, прежде казавшаяся ему добродушной и глуповатой, оказывается, была исполнена загадочного коварства.
Что касается жирного великана в пестрой форме, что касается роскошного полубога, то Хендрик от страха и напряжения почти его не видел. Огромную фигуру всемогущего словно окутывала вуаль – тот мистический туман, который испокон веков скрывает образы всесильных вершителей судеб, богов, от робкого взора смертных. Лишь орденская звезда блестела сквозь туман да выступал устрашающий контур бычьего затылка, но вот вновь раздался командный голос – резкий и жирный:
– Подойдите же поближе, господин Хефген.
Люди, болтавшиеся в партере, уставились на ложу премьер-министра. Шушукались, выворачивали шеи. Ни одно движение могучего властителя не ускользало от взглядов зевак, толпившихся между рядами. Передавали, что лицо генерала авиации все более теплело, веселело. О, он смеется, с благоговением констатировали в партере. Великий человек смеялся громко, сердечно, широко разевая рот. И Лотта Линденталь выдала жемчужно-колоратурный смешок, а артист Хефген, в высшей степени декоративно драпируясь в черную накидку, показал триумфальную улыбку, которая на маске Мефистофеля казалась болезненной ухмылкой.
Беседа всемогущего с комедиантом становилась все оживленней. Вне всякого сомнения, премьер-министр веселился. Какие же великолепные анекдоты рассказывал Хефген? Как он добился того, что генерал авиации буквально захмелел от благодушества? Все в партере старались ухватить хотя бы несколько слов из тех, что слетали с кроваво-красных уст. Но Мефисто говорил тихо, лишь всемогущий мог расслышать его изысканные шутки.
Красивым жестом Хефген раскинул руки под накидкой так, словно бы у него выросли черные крылья. Всемогущий похлопал его по плечу; все в партере это заметили, благоговейный шорох нарастал. Но он тотчас смолк, как музыка в цирке перед опаснейшим номером, когда случилось нечто чрезвычайное.
Премьер-министр поднялся; вот он стоит во всем своем величии и сверкающей полноте и протягивает комедианту руку! Поздравляет его с великолепным исполнением? Похоже, что всемогущий заключил с комедиантом союз.
В партере распахнули рты и глаза. Все буквально глотали жесты троих там, в ложе, как некий невиданный спектакль, как волшебную пантомиму под заголовком «Артист обольщает власть». Никогда еще Хендрику так не завидовали. Счастливчик!
Догадывался ли кто-нибудь из любопытствующих о том, что в действительности происходило в груди Хендрика, пока он глубоко склонялся над мясистой, волосатой рукой? Только ли счастье и гордость заставляли его содрогаться? Или он, к собственному удивлению, испытывал и кое-что другое?