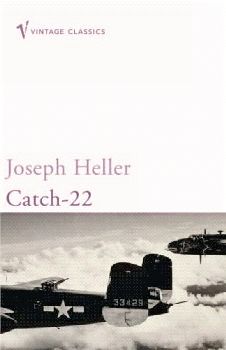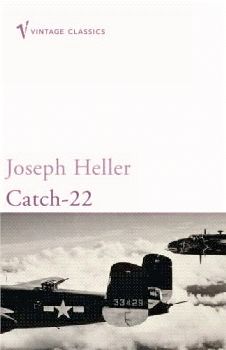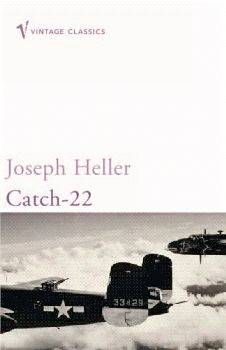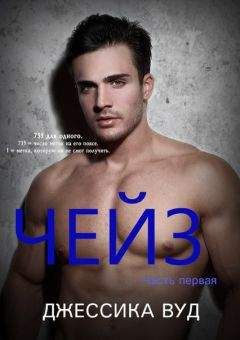Возникла мучительно тяжелая пауза, грозившая затянуться до бесконечности. Наконец Йоссариану стало невмоготу, и он покашлял. Первым заговорил старик.
— Он выглядит ужасно, — сказал он.
— Он ведь болен, па.
— Джузеппе… — сказала мать, усевшись на стул, и положила на колени свои жилистые руки.
— Меня зовут Йоссариан, — сказал Йоссариан.
— Его зовут Йоссариан, ма. Йоссариан, ты что, не узнаешь меня? Я твой брат Джон. Ты меня знаешь?
— Конечно, знаю. Ты мой брат Джон. — Вот видите, он узнал меня! Па, он знает, кто я. Йоссариан, это па. Скажи папе «Здравствуй».
— Здравствуй, папа, — сказал Йоссариан.
— Здравствуй, Джузеппе.
— Его зовут Йоссариан, па.
— Как он ужасно выглядит! Я не могу этого вынести, — сказал отец.
— Он очень болен, па. Врач сказал, что он умрет.
— Не знаю, можно ли верить докторам. Они ведь такие мошенники.
— Джузеппе… — снова тихонько сказала мать, и в ее надтреснутом голосе послышалось невыразимое страдание.
— Его зовут Йоссариан, ма. У нее уже память стала не та, Йоссариан. Как они к тебе здесь относятся, малыш? Уход сносный?
— Вполне сносный, — ответил Йоссариан.
— Это хорошо. Только никому не позволяй помыкать собой. Ты здесь нисколько не хуже других, хоть ты и итальянец. У тебя такие же права, как у всех.
Йоссариан поморщился и закрыл глаза, чтобы не видеть своего брата Джона. Ему стало не по себе.
— Нет, ты посмотри, как он ужасно выглядит, — заметил отец.
— Джузеппе… — сказала мать.
— Ма, его зовут Йоссариан, — нетерпеливо прервал ее брат, — ты что, забыла?
— Неважно, — перебил его Йоссариан. — Если ей хочется, она может называть меня Джузеппе.
— Джузеппе… — сказала мать.
— Не беспокойся, Йоссариан, — сказал брат. — Все будет в порядке.
— Не беспокойся, ма, — сказал Йоссариан. — Все будет в порядке.
— У тебя есть священник? — поинтересовался брат.
— Есть, — соврал Йоссариан и снова поморщился.
— Это хорошо, — заключил брат. — Раз ты все понимаешь, значит, ты приходишь в себя. Мы к тебе из самого Нью-Йорка ехали. Боялись, не поспеем вовремя.
— Куда не поспеете?
— Не успеем повидать тебя перед смертью…
— А что бы от этого изменилось?
— Нам не хотелось, чтобы ты умирал в одиночестве.
— А что бы от этого, изменилось?
— Он, должно быть, начинает бредить, — сказал брат.
— Он без конца повторяет одно и то же.
— Это действительно занятно, — отозвался старик. — Я всегда думал, что его зовут Джузеппе, а он, оказывается, Йоссариан. Это, право, занятно.
— Ма, утешь его, — настаивал брат. — Скажи что-нибудь, чтобы приободрить его.
— Джузеппе…
— Это не Джузеппе, ма, а Йоссариан.
— А не все ли равно? — ответила мать тем же скорбным тоном, не поднимая глаз. — Он умирает.
Ее распухшие глаза наполнились слезами, и она заплакала, медленно раскачиваясь взад и вперед. Руки ее лежали на коленях в подоле, как две подстреленные птицы. Йоссариан испугался, как бы она сейчас не завопила в голос. Отец и брат тоже заплакали. Йоссариан вдруг вспомнил, почему они плачут, и тоже заплакал. Врач, которого Йоссариан прежде никогда не видел, вошел в палату и вежливо напомнил посетителям, что им пора выходить. Отец сразу принял официальный вид и стал прощаться.
— Джузеппе… — начал он.
— Йоссариан, — поправил его сын.
— Йоссариан… — сказал отец.
— Джузеппе… — поправил его Йоссариан.
— Ты скоро умрешь…
Йоссариан снова заплакал. Опустив голову, отец торжественно продолжал.
— Когда ты предстанешь пред ликом всевышнего, — сказал он, — будь добр, скажи ему кое-что от моего имени. Скажи ему, что это неправильно, когда люди умирают молодыми. Вот что. Передай ему: раз уж людям суждено умереть, пусть они умирают в старости. Ты уж обязательно ему скажи. По-моему, он не знает, что на земле творится такая несправедливость. Разве можно, чтобы это тянулось долго, так долго? Ведь он же милостив… Скажешь, ладно?
— И не позволяй никому помыкать собой, — посоветовал брат. — На небесах ты будешь нисколько не хуже других, хоть ты и итальянец.
— Одевайся теплее… — сказала мать, будто она знала, что на небесах недолго и простудиться.
Полковник Кэткарт был блестящим, преуспевающим, несобранным, несчастным человеком тридцати шести лет от роду, с прихрамывающей походкой и мечтой прорваться в генералы. Он бывал то энергичным, то вялым, то спокойным, то хмурым. Благодушный и вспыльчивый, он прибегал к всевозможным административным уловкам, чтобы привлечь к себе внимание вышестоящего начальства, но при этом отчаянно трусил, опасаясь, что его хитроумные планы могут бумерангом ударить и по нему. Красивый и непривлекательный здоровяк, предрасположенный к полноте, тщеславный и лихой до удали, он постоянно находился в когтях дурных предчувствий. Тщеславие полковника Кэткарта проистекало от сознания, что в свои тридцать шесть лет он уже полковник и строевой командир, а в подавленном состоянии он находился оттого, что, хотя ему уже и тридцать шесть, он всего лишь полковник.
Полковника не интересовали абсолютные категории. Он оценивал свои успехи только в сравнении с успехами других. По его мнению, преуспеть в жизни — значило уметь делать по крайней мере то же самое, что делали самые удачливые из его ровесников. То обстоятельство, что тысячи людей его возраста и старше не достигли даже ранга майора, делало полковника чванливым и возвышало в собственных глазах. Но встречались люди его возраста и даже моложе, уже ставшие генералами, — и это отравляло душу полковника мучительным ощущением неудачи и заставляло грызть ногти в безутешном отчаянии, еще более сильном, чем отчаяние Заморыша Джо.
Полковник Кэткарт был крупным, широкоплечим, капризным человеком с вьющимися, коротко стриженными, начинающими седеть темными волосами. Гордостью полковника был инкрустированный мундштук, который он приобрел ровно за день до прибытия на Пьяносу, где принял авиаполк. При каждом удобном случае полковник величественно демонстрировал свой мундштук и научился обращаться с ним весьма ловко. Совершенно нечаянно он обнаружил в себе склонность курить с мундштуком. Насколько ему было известно, его мундштук был единственным на всем Средиземноморском театре военных действий, и мысль эта одновременно и льстила полковнику, и не давала покоя. Он абсолютно не сомневался, что такие светские и интеллигентные люди, как генерал Пеккем, безусловно, должны одобрить его мундштук, однако встречался он с генералом Пеккемом довольно редко, и расценивал это само по себе как большую удачу, ибо кто его знает, генерал Пеккем мог и не одобрить его мундштук. Когда дурные предчувствия такого рода посещали полковника Кэткарта, он чуть не задыхался от рыданий и порывался выбросить к чертовой матери свой мундштук, но от этого шага полковника удерживало твердое убеждение, что мундштук так идет к его мужественной, воинственной наружности, что он придает его героической натуре особый шик и резко подчеркивает его преимущества по сравнению со всеми конкурентами — другими полковниками американской армии. Впрочем, разве в таких вещах можно быть уверенным?
Полковник Кэткарт шел по избранному пути, не ведая устали, трудолюбивый, ревностный, преданный своему делу военный тактик, который денно и нощно вынашивал планы, направленные на дальнейшее процветание собственной персоны. Этот человек был сам для себя ходячей камерой пыток. Смелый, непогрешимый дипломат, он беспрестанно хоронил себя заживо, беспощадно поносил за малейший упущенный шанс; распинал за каждую допущенную ошибку. Он был всегда возбужден, раздражен, огорчен и исполнен самодовольства. Он отважно охотился за удачей и плотоядно впивался зубами в каждое казавшееся ему удачным предложение подполковника Корна, но тут же впадал в отчаяние при мысли о последствиях, могущих оказаться для него пагубными. Он алчно коллекционировал слухи и копил сплетни, как скупец — бриллианты. Он принимал близко к сердцу все новости, но не верил ни одной. Он готов был вскочить на ноги по первому сигналу тревоги. Он исключительно болезненно реагировал на перемены в отношениях с начальством, если даже никаких перемен на самом деле и не происходило. Хотя он был полностью в курсе всех дел, его все-таки всегда снедало страстное желание узнать, что происходит вокруг. Хвастливый, чванливый по природе, он впадал в безутешную меланхолию по поводу непоправимо ужасного впечатления, которое, как ему казалось, он производил на начальство, хотя высокое командование едва догадывалось о существовании полковника Кэткарта.
Ему казалось, что все его преследуют, и посему ум полковника Кэткарта судорожно метался в зыбком мире арифметических выкладок, где слагались и вычитались пироги и пышки, синяки и шишки, которые могли бы ему достаться в результате потрясающих побед и катастрофических поражений. Он то впадал в отчаяние, то воспламенялся восторгом, чудовищно преувеличивая трагизм поражений и величие побед. Застать полковника Кэткарта врасплох было невозможно. Если до него доходили слухи, что генерал Дридл или генерал Пеккем улыбались, хмурились или не делали ни того, ни другого, он не успокаивался, пока не находил этому подходящего объяснения. Он скулил и ворчал до тех пор, пока подполковнику Корну не удавалось уговорить его успокоиться и смотреть на вещи проще.