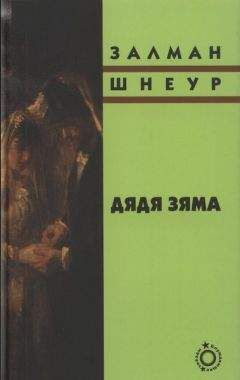Обыватели, почувствовав себя виноватыми, вздрогнули и придвинулись к печке, которую стали топить лишь пару дней назад. И только дядя Ури отважился пуститься в расспросы:
— Что случилось? Как это произошло?
А ему, хозяину купальни, почем знать? Он же шел с поднятым воротником тулупа. Но только вот ему кажется… Он может поклясться, что… что видел хромого, который убегал, подпрыгивая на своем костыле… Может, это Хаце-шапочник? Тот самый, которого видели выходящим из хаты поднадзорного, он тогда еще все оглядывался? Коли так, то шапочник из той же шайки… Чтоб им всем повылазило!
— Надо было еще тогда переговорить с приставом, — заявляет Ури и выдергивает у себя из бороды волосок.
2.
Хозяин купальни и вправду перестал вносить еженедельные платежи в «Сеймех нейфлим», и никто ему слова не сказал. Но этим дело не кончилось.
Прошло некоторое время, и вдруг новость: у Уриного старшего брата, Зямы-скорняка, вдруг забастовали подмастерья. И когда — в конце зимы, когда работа в самом разгаре, когда нужно сшивать раскроенные пластины белки и хорька перед ярмаркой в Нижнем. Чего они хотят? Хотят — прибавки, а не хотят — работать после семи часов вечера. А ежели из-за этого товар будет не готов вовремя, пусть реб Зяма наймет еще нескольких подмастерьев. Ничего страшного, мало, что ли, свободных рабочих рук в Шклове?
Роптали старшие подмастерья, молчал только ученик Пейшка, желтоволосый парень с такими рыжими веснушками, будто его сбили из красноватых яичных желтков, даже зубы у него были желтые, как у овцы. Только глаза, зеленоголубые, как зажженные спички, и бегают, как у кота. Да, Пейшка молчал, но дядя Зяма всем своим жизненным опытом почуял его тихую ненависть. И когда подмастерья распустили язык, Зяма ни с того ни с сего угостил затрещиной… Пейшку. И кому же, как не Пейшке, должен был Зяма дать затрещину? Во-первых, Пейшка — самый младший, во-вторых, а что он все время шушукается с подмастерьями, стоит ему, Зяме, выйти за дверь? И почему молчит, когда все говорят?..
Ури-косой, который при этом присутствовал, согласился со старшим братом и одобрил затрещину. И правда… О чем такому юнцу, как Пейшка, шушукаться со старшими? Ему еще учиться и учиться… А может, Пейшка вообще снюхался с хромым шапочником?
Но оказалось, что старшим подмастерьям не по душе пришлось ни Зямино рукоприкладство, ни Урино одобрение. Потому что сразу после того, как все это произошло, они поснимали передники и надели пальто.
— Что это за новая мода? — раскричался, вспыхнув, как огонь, Зяма.
— Вам скоро расскажут! — спокойно и загадочно ответили ему.
— Кто мне расскажет? Что расскажут?! — хорохорился Зяма.
На это ему никто ничего не ответил. Только Бендет, старший подмастерье, тихо, даже отчасти застенчиво, но в то же время не отвечая на вопрос прямо, сказал:
— И… что вы руки распускаете? Своим детям затрещины отвешивайте…
Помирить всех попробовал Зямин гой с «золотыми руками», мастер подкрашивать беличьи и хорьковые пластины. Он дыхнул на хозяина перегаром и благодушием:
— Ну, слушай, барин, голубчик! Пойди, поговори с ними!.. Ты же видишь… Родной, помирись!
И на нем-то Зяма и выместил всю свою злость:
— Ты, пьянчуга, не мешайся! Тебя не спрашивают. Молчи!
Все ушли.
А разговаривать с Зямой пришел человек, который вообще не имел отношения к скорняцкому делу. Угадайте кто? Шапочник! Шапочник Хаце-хромой… Это его, оказывается, послали разговаривать с дядей Зямой. Он прихромал на своем черном костыле, в суконном картузе с козырьком, из-под которого смотрели пронзительные глаза. Язык так и вертится между жидкими подстриженными усами и такой же бородкой: доброе утро, реб Зяма! Пришел поговорить с реб Зямой о забастовке, которая…
Зяма его грубо перебил:
— И давно ты породнился со скорняками? Ты-то?!
А шапочник ему и говорит, совершенно спокойно: во-первых, он, Хаце-шапочник, ему не «ты», а «вы». Он, дескать, с реб Зямой вместе гусей не пас, чтобы тот ему «тыкал»; а во-вторых, дескать, скорнякам он и вправду свой…
— Присаживайтесь, реб Зяма! — вдруг вежливо сказал шапочник, а взгляд-то острый как нож.
«Присаживайтесь!» — и таким тоном, будто не он пришел договариваться с Зямой, а, наоборот, Зяма пришел к нему. И гляньте-ка, странное дело! Зяма побледнел и сел.
— Во-первых, — говорит хромой шапочник, кладя свой костыль в угол и тоже садясь, — во-первых, будьте добры, помиритесь с Пейшкой и выдайте ему наличными двадцать пять рублей, и пусть Пейшка делает с ними, что хочет: хочет — себе возьмет, хочет — раздаст бедным… Во-вторых, рубль прибавки в неделю каждому подмастерью — и Пейшке тоже! А в-третьих…
— Может, и гою-пьянчуге тоже? — перебивает Зяма желчно.
— Конечно, гою тоже! — отвечает, улыбаясь, Хаце-шапочник. — Что же он, не человек, что ли?
Тут Зяма прямо-таки подпрыгнул:
— Вон из моего дома, хромой черт! Вон!
3.
Шапочник совершенно невозмутимо взял свой костыль, оперся на него той половиной тела, которая покороче, и похромал… Даже дверью не хлопнул. Видать, не обиделся.
Груды несшитых бобров, нераскроенных белок остались лежать точно после резни. По всему дому валялись набитые засохшими квасцами хорьковые шкурки с вытянутыми хвостами и, казалось, говорили хозяину: «Пропали мы и для Шклова, и для Нижнего, ни шуб не будет, ни заработков…»
Тем временем весть о том, что устроили Зямины подмастерья, разнеслась по городу, обрастая подробностями: у Зямы была драка, его, наверное, отделают, как хозяина купальни, а дом подожгут…
Утро в любавичском бесмедреше, сразу после чтения раздела Мишны[266]. Все, сидя за длинным столом над уже закрытыми книгами, снимают тфилин рабейну Тама[267], целуют их и сворачивают ремни. Тут-то языки, занятые доселе молитвой и Мишной, наконец развязываются. Время — перед завтраком. Тянет уйти, но никто не трогается с места. Выглядит это как своего рода сход. Дядя Ури только что рассказал про Зяминых подмастерьев и про затрещину со всеми подробностями — сразу все изложил! Общине следует поступить по уму, ох следует. Ури истолковывает стих из Свитка Эстер: Ки им ахрейш тахришун ло-эйс а-зейс…[268] — если вы все по этому поводу промолчите, Зяма сам решит, что ему делать, но тогда уж у вас самих начнутся неприятности с приказчиками в лавках, с подмастерьями в мастерских, и никто за вас рыбку из пруда таскать не будет…
Слушавших эта проповедь поразила: и правда, как быть? Ну а с другой стороны, как прикажете иметь дело с этой шайкой? Не забыл ли реб Ури, что случилось с хозяином купальни? Конечно, реб Ури — купец… И реб Зяма — его кровный брат… Ну, послушаем.
Дядя Ури смерил всех сидящих за столом своим косым взглядом:
— Вот что надо сделать. Несколько человек, из тех, что говорят по-фоняцки, пусть отправятся все вместе к приставу. Надо еще взять с собой Йошку-парикмахера, взять, значит, с собой — у него вид представительный, он пан-и-брат[269] с приставом, недаром пристав не раз уже кушал у него фаршированную рыбу… Надо пойти всей компанией к этому самому приставу и дать ему на лапу, ясное дело, дать. Я внесу свою долю, Зяма — свою, вы тоже внесете… Кто ж не даст на общее дело? А уговаривать его надо будет так, так вот уговаривать: «Господин ты наш, барин-батюшка, погляди, возьмись, наведи порядок…»
Читающие Мишну уважительно слушали Ури и дивились складности и гладкости его программы. Дядя Ури отметил произведенный эффект и продолжал напевно излагать, каким манером должна действовать предполагаемая депутация:
— Двух твоих десятских, господин ты наш пристав, этих двух твоих растяп в обтерханых фуражках можешь хоть так отдать, хоть за грош продать. Возьми-ка лучше и привези из Могилева товар поновей, вроде тех жандармов, которые приезжали сюда, когда цишилист утонул, тогда еще…
У дяди Ури сердце ныло в предвкушении завтрака, и всю свою сердечную тоску, все томительное чувство голода он вложил в эту программу. И кто знает, как далеко бы он зашел!
Только вдруг посреди его проповеди из вайбер-шул прогулочным шагом выходит Пейшка-рыжий с веснушками и горящими, как у кота, глазами. Сматывает тфилин и наскоро договаривает Алейну лешебеах[270]. Губами шлепает так, что только желтые зубы мелькают: «Be-ал кейн некаве лехо…[271] Мням-мням-мням, тьфу![272] Ве-симлейх алейгем мегэйро…»[273]
У дяди Ури екнуло сердце: он был готов поклясться, что рыжий черт, сидя в вайбер-шул, подслушал его обширную программу и теперь только делает вид, что молится.
— А, это ты? — кивает ему Ури. — Что это ты здесь делаешь?