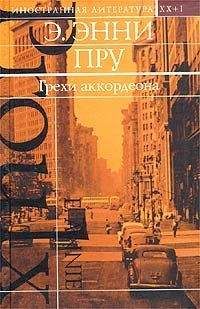Долор пытался представить себе эту старую музыку.
В ближайший субботний вечер они приоделись в свободные пиджаки, Уилф надел, не застегнув до конца, розовую рубашку, Долор – черную, и они отправились по барам Бетрэндвилля. Эмма не нашла с кем оставить ребенка, поэтому осталась дома. В «Полярной звезде» гитарист нудел что-то вроде «Вальса в Теннесси». Они заказали «Бад».
– Как насчет кантри? Помнишь, мы разучивали «Абилин»? Вполне ничего.
– Может быть. – Гитарист теперь терзал «Кого винить».
– Господи, какая хуйня эта гитара.
Они прошлись по улице до неоновой вывески «КОКТЕЙЛИ», мигавшей стаканом с зеленой и красной оливками. Зайдя в бар, заказали виски с лимоном, оказалось вполне прилично, и отдались музыке: саксофонному тенору, органу и черному лысому человеку из каких-то чужих краев, который стучал по барабану и тряс головой так, словно не мог поверить, что он действительно в Мэне. Когда они вышли, улица была пуста, если не считать мерцающих вывесок, и они двинулись искать следующий бар. Долор порвал рукав своего модного плаща о торчащий гвоздь.
Вдруг мимо их голов пролетели обрывки французских фраз.
– Je m'en crisse!
– Mange de la marde! [203]
Некоторое время спустя он вдруг решил, что сможет говорить по-французски и произнес похожие слова, но это было все равно, что говорить по-куриному – просто звуки, без всякого смысла. Уилф всеми бортами медленно погружался в море виски и убийственное настроение. Долор вспомнил сумасшедший взгляд Моргалы с обеденным подносом в руках.
– Мне осточертел этот проклятый грузовик, – орал Уилф, рвался лупить по щекам, вцеплялся в одежду и тянулся ребром ладони к затылкам посторонних людей, явно ввязываясь в драку. Долор привез его в Рандом – по пути грузовик вилял, полз в сторону деревьев и встречных фар – и впихнул в дом; бросив на него холодный взгляд, Эмма сказала: надеюсь, ты доволен.
– Пожалуй, это была не слишком хорошая идея. – Он готов был на нее наброситься.
Глупее всего они провели ту снежную мартовскую ночь, когда радиостанция «Пенобнокет» объявила, что спрятала где-то в городе бутылку от пепси-колы с засунутой в нее тысячедолларовой банкнотой. Приехавшие за сто миль мужчины, женщины и дети два дня рылись в снегу, обыскивали комнаты мотелей, ломаные будки во дворах кабаков, лезли в судебную палату, на почту, в автомастерские, в контору службы распространения, вваливались на саму радиостанцию – пока не вмешалась полиция и не отправила всех по домам. Позже Уилф узнал, что бутылка была спрятана в запертой машине самого хозяина станции. Кто мог ее там найти? Уилф отказался слушать их передачи – не смягчило его даже то, что деньги они пожертвовали на строительство новой детской площадки.
В сгущавшихся лесных сумерках, под летящей из-под пилы древесной пылью он вдруг почувствовал, что опять заболели ноги, – винил во всем плохой день, плохие недели, катившиеся назад холодные месяцы, неудобно прижимал к себе пилу так, что схватывало спину. И брался за ствол, и перекатывал его, чтобы дотянуться до прижатых к снегу веток, воздух вырывался из расцарапанного потрескавшегося рта, на подбородке нарастали жесткие подушки инея, его мутило от запаха масла двухтактного мотора, смолы, сырого дерева и сломанных иголок, снега, собственного пота, сигаретного дыма и мыслей о том, что ему делать с остатком своей жизни. Неужели он влюбился в Эмму? Неужели он хочет такую жизнь, как у Уилфа? Он хотел Эмму – еще сильнее из-за того, что она француженка, родила Уилфу ребенка, у нее куча родственников, кланы Комеа и Пелки, сложная кровная цепочка, что тянется через все границы, с южного берега реки Святого Лаврентия через Новую Англию на юг в Луизиану: дядюшки, двоюродные, троюродные братья и сестры, тетушкины свояки, родные братья, родные сестры, их мужья, жены и дети. Богатство крови. Сквозь мелодии он грезил наяву о чем-то семейно-сентиментальном, обтесывал стволы, старался рубить ветки в определенном ритме, но неуклюжие сучья постоянно его сбивали; он думал об исчезнувших пластинках: синие и золотистые наклейки валятся на груды мусора, музыка мертвых скрипачей похожа на ирландские песни, но более свинговая, скользящая, музыкальные фразы раскачиваются, расплываются дикими узорами, но ломаются, исчезают среди мокрых матрасов и древесной коры. Даже зеленый аккордеон чем-то тоже вызывал неприязнь. Долор чувствовал, как истерлись его кнопки, приладившись к пальцам прежнего хозяина, ремень перекрутился, привыкнув к чьей-то ладони. В складках и трещинах слежалась древняя пыль – пыль деревянных полов танцзалов, человеческий жир, частицы разложившихся материалов, ворсинки, крошки. Призрачный музыкант оказывался в кругу его рук всякий раз, когда Долор доставал аккордеон. Он хотел Эмму, да, но не меньше хотел он, чтоб она осталась с Уилфом. Что же делать? Брак с двумя мужьями с его жуткой близостью? А может Уилф умрет, и тогда Эмма достанется ему. На желание наслаивались перекошенные мысли, и он безо всякой на то причины стал вдруг проверять, нет ли в моче крови, переживал, когда след струи на снегу казался ему розовато-коричневым – хотя для страха не было никаких оснований. Потом появилась привычка, от которой он не мог избавиться несколько недель: засекать, сколько времени уходит на опустошение мочевого пузыря. Однажды утром получилось сорок две секунды, и он решил, что в самом ближайшем будущем умрет от разрыва внутренних органов.
Он зашивал дыру от колючей проволоки на рабочих штанах, когда услыхал визг тормозов, рев двигателя, а затем топот – такой, словно по плитняку неслась лошадь Пелки. Хлопнула входная дверь, и Уилф, проскакав по коридору, ввалился к Долору в квартиру. Распахнул холодильник, достал две бутылки пива, открыл и, шлепая пеной на губах, протянул одну Долору.
– В чем дело? – удивился тот. – Тебя назначили лучшим шофером года?
– Нас зовут работать. Играть. Знакомый парень, тоже дальнобойщик, устраивает для жены вечеринку, сюрприз, день рождения. Мы играем. Мы с тобой. Он заплатит. Двадцать баксов. В субботу. Слушай, давай репетировать. Надо сыграть отлично. Если пройдет хорошо, мы будем играть часто. Вставай, начинаем. Такого шанса еще не было. Мы на верном пути. Посмотри, в грузовике – я привез усилитель и два списанных армейских динамика. Вставай, чего расселся, черт возьми, нашел время тыкать иголкой. Черт подери, прям как глупый француз.
Он успокоился лишь к назначенному дню. Он знал наизусть каждую ноту; они вырывались из-под быстрых пальцев напористо, сильно – то, что нужно для танцев. Но в первый час все шло наперекосяк – на Уилфа напал страх сцены. Он трясся так сильно, что не мог настроить скрипку, перетянул смычок, сорвал резьбу, пришлось достать старый, с перетертым волосом, а когда начал играть, руки его страшно дрожали, ноты соскакивали, визжали, он забывал мелодию.
Долор проклинал себя, что не заметил этого раньше. Круглые динамики были сделаны из железа и покрашены в цвет хаки. Усилитель «Боджен» щетинился под слоем пыли стеклянными трубками. Они долго не могли пристроить в тесной кухне свое добро, и наконец поставили один динамик на холодильник, второй – на стул у задней двери, а усилитель – на крышку электроплиты. Он сильно нагревался и гудел. Уилф с трудом переводил дух.
– Господи, ну и тяжелое это дерьмо.
– Зачем оно вообще? – спросил Долор. – Это же кухня, и так будет нормально слышно.
– Не будет! Они начнут танцевать, топать, ржать, хлопать дверьми и ничего не услышат вообще. Без усилителя нельзя, если ты хочешь быть профи. – Он тряс руками, как будто они были мокрыми, пять или шесть раз переставлял динамики, пока, успевший набраться Большой Бабби не заорал: хватит, давайте музыку. Белая от ярости жена получила настоящий сюрприз, но не особенно приятный, поскольку ее день рождения прошел незамеченным две недели назад, сейчас же у нее скручивало живот от менструальной боли, оба ребенка кашляли, она ходила по дому в рваном халате, повсюду валялись носки, грязные тарелки и катыши пыли, и тут вдруг съехались машины, незнакомые люди поздравляют ее с днем рождения, курят и пьют.
Долор и Уилф в одинаковых красных рубашках «Аэртекс» и туфлях на креповой подошве забились в дальний угол кухни. Люди, входили и выходили через заднюю дверь, постоянно спотыкались о тянувшийся от динамика провод, Большой Бабби орал:
– Атлична! – Дверь холодильника хлопала каждые десять секунд, динамик трясся. Звук хрипит, думал Долор, все басы спрямлены, и скрипичные ноты Уилфа вырываются будто прямиком из преисподней.
– Перерыв, – крикнул Долор Большому Бабби, когда пальцы Уилфа заскользили по деке, словно хоккейная шайба по свежему льду. Он вытолкнул Уилфа во двор, протащил через пьяную толпу и в тишине гаража сунул в руку бутылку пива. Глаза у приятеля побелели от паники.