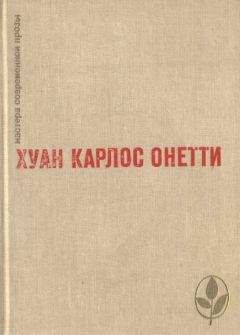— Да, — сказал я, отпер дверь и пропустил ее. В отсутствии Кеки я не сомневался. «Рассказать бы тебе, что я собираюсь сделать», — думал я, следуя за ее медлительностью, за стуком каблуков, остановившихся перед портретом Гертруды. — Эта история кончена, и тема меня не интересует. Полагаю, однако, что не она привела тебя сюда и не желание откомментировать наше последнее пребывание вдвоем.
— И не оно, — подтвердила Ракель, не оборачиваясь, уткнувшись в портрет сестры. — Я знаю, почему ты расстался со мной таким образом, понимаю все, что ты тогда пережил, и хочу поблагодарить тебя.
Она порывисто, драматически повернулась: неопределимое отталкивающее свойство захватывало ее и все сильнее проступало на лице. Я сел, поправил раздутый деньгами карман. От нее, от соприкосновения ее смешной шляпы с фотографией Гертруды исходила какая-то угроза: когда Ракель уйдет, я избавлюсь от какой-то неприятности, вроде пятна на коже или угрызений совести.
— Нет, — сказал я, — вряд ли ты понимаешь. Я знал, что тебя рвет в уборной кафе, что я буду тебе нужен, когда ты выйдешь. Но мне не было тебя жаль. Быть может, я струсил: во всяком случае, мне хотелось освободиться, не связывать себя. Только и всего.
Она опять заулыбалась, приблизилась ко мне маленькими шажками, чуть волоча ноги и внимая каждому прикосновению ступни к полу, отодвинула стул и очень медленно села, помогая себе руками.
— Никто не знает, что я в Буэнос-Айресе. — Слова пронзали экстатическую улыбку, не меняя ее, глаза предугадывали мое удивление. — Ни Гертруда, ни мама. Я им даже не позвонила. Прежде всего я хотела видеть тебя.
Я молча ей улыбнулся, уверенный, что воспроизвожу с точностью то прежнее выражение понимания и изумления, с каким некогда глядел на нее.
— Мне хотелось увидеть тебя и поговорить с тобой. Хотелось с того момента, когда я поняла, почему ты так поступил. Это превратилось в насущную необходимость, и вот я здесь.
То отвратительное, что она внесла с собой, завладевало комнатой и уже было крупнее и реальнее нас самих.
— Да, — сказал я. — Понимаю.
Я сложил молитву, прося, чтобы она сняла шляпу, и повторял ее про себя; мне необходимо было видеть ее открытый лоб и распущенные волосы. Я отдал бы все деньги из своего кармана, лишь бы снова любить ее.
— Вполне возможно, что ты больше не переживаешь, — продолжала она. — Но я хочу стереть и то страдание, которое ты тогда претерпел.
Перестав молиться, я принялся играть со словом «претерпел», выжал из него все смешное и выбросил. И вдруг мне пришлось спрятать лицо, потому что я понял, что именно видоизменяло ее, открыл значение медленной походки, переваливающегося при ходьбе тела, предосторожностей, с которыми она садилась, — я увидел живот, который выпирал над худыми раздвинутыми ляжками. Чувство отталкивания и враждебности пробивалось из брюха, которое ей сделали, от зародыша, который рос, уничтожая ее, победоносно превращал ее в неотличимую от других беременную женщину, обрекал ее на растворение в чужой судьбе. Она сидела, откинувшись на спинку стула и обращая вверх, к вселенной, неизменную улыбку любви. Наверняка думает буквально: мое лицо освещено внутренним светом. От прилипшей к голове шляпки до туфель, стремившихся соединить носки, она источала поражение и сумасбродное блаженство, точно дурной запах.
— И эта необходимость достигла кульминации, — разглагольствовала она, — дней десять-пятнадцать назад, когда я получила письмо от Гертруды. В нем она рассказывала мне о ваших отношениях; конечно, я уже все знала. Но кроме того, там говорилось и о нас с тобой, не прямо, а шутливым намеком.
— Теперь-то не все ли равно? — уныло спросил я.
— Не в этом дело, ты выслушай. Что знает о нас Гертруда? Что ты ей сказал обо мне?
— Ничего. Вернувшись из Монтевидео, я не сказал ей ни слова. Раньше я сказал бы ей, что люблю тебя. — Я откровенно улыбнулся, демонстративно задержал взгляд на ее животе. — Что ты чудо, что ты бессмыслица, что ты, как никто, воплощаешь восторг и тайну жизни. — «Она такая же старуха, как Гертруда; это растущее брюхо стоит отрезанной груди ее сестрицы». — Разве ты не была такой? Могла ли Гертруда запретить тебе такой быть, а мне — восхищаться всем тем, чем ты была?
— Не в этом дело. — Она терпеливо повела своей улыбкой из стороны в сторону, отстраняя разногласия и запальчивость. — Речь о нас с тобой, о том, что с этим надо покончить.
— С этим? — воскликнул я, приближая к ней лицо с былым выражением чистосердечного изумления, на этот раз не нарочитого.
— Получив письмо, я поняла, что это необходимо; я прошла через кризис, но в конце концов собралась с духом, решила, что должна повидать тебя. Знаю, нам не в чем раскаиваться. Но мы в таком положении…
Она или сошла с ума, или — слава тогда богу! — насмехалась надо мной с самого начала и все еще насмехается.
— Ты ждешь ребенка? — перебил я ее; ликования, с каким она просмаковала слово «да», пропуская его сквозь зубы, было достаточно, чтобы взбесить меня. — Будь я проклят, если мне приходит в голову, с чем именно нам нужно покончить.
— Не сердись, — прошептала она.
Если я скажу ей, что собираюсь убить Кеку без какого-либо мотива, который я способен объяснить, она кротко посоветует: «Не делай этого» — и, смежив веки, войдет в контакт с источником доброты и терпимости, который распирает ей матку.
— Милый, не сердись. Знаю, вины больше на мне. Я не должна была… Альсидесу все известно, он смог понять. Я очень тебя люблю; наверное, не знала никого добрее тебя.
Я вскочил и кинулся на кухню искать спиртное, но раскаялся и медленно возвратился к устойчивой улыбке, незлобивой и идиотской.
— Сердиться мне не на что, — сказал я. — Но вот какая вещь: я не знаю тебя, не знаю, кто ты и что здесь делаешь! Из того, что ты говоришь, я не понимаю ни слова.
— Да, конечно, — радостно согласилась она. — Я была слепа или безумна, что хочешь. Я всегда любила тебя, с того времени, как ты ездил в Поситас встречаться с Гертрудой. Я была ребенком пятнадцати лет; говорю не о тебе, но девушки влюбляются в кого угодно, кто попадается под руку или кто совершенно не годится. Быть может, я любила тебя за твою доброту, за твое понимание, за твой ум, такой оригинальный, человечный. Мне не в чем тебя упрекнуть. В тот раз, когда ты вернулся в Монтевидео, каждый из нас внес свою лепту в усугубление ошибки, не давая себе в этом отчета, я уверена. Ты не был счастлив с Гертрудой, а я была в смятении, проходила период испытания. Мы нуждались друг в друге духовно.
— Но я ездил в Монтевидео с женщиной, с женщиной, которая оплатила мою поездку, причем не своими деньгами, а деньгами мужчины, которого я не знаю, с которым она спала. Тебе это понятно?
— Неважно, все мы совершаем ошибки.
— Но мы же с тобой целовались, — сказал я со смехом. — Я обнимал тебя, чувствовал твой язык.
Она моргнула, показала улыбку, которая тут же исчезла, опробовала на мне взгляд, предназначенный для будущего ребенка.
— Верно, целовались. Но плохо, что у тебя все еще длится настроение той ночи и ты считаешь, будто со мной происходит то же самое. Я была слепа, теперь у меня открылись глаза. Важны не поступки, а то, что мы чувствуем. Каждое низменное, несправедливое, эгоистическое чувство удерживает нас в состоянии несовершенства. И не только нас, но и тех, кто с нами общается. А зло, которое мы передаем им, они передают другим. Понимаешь?
Она сумасшедшая, она не имеет на это права, не имеет права превращаться в гротескную развалину, искажать образ Ракели, о которой я думал, когда мне было грустно. Нужно сорвать с нее шляпу, увидеть ее круглую голову, встрепанные волосы, увидеть лицо Ракели, пока не поздно. Подобно тому как прямое мешковатое платье является униформой всех женщин мира, собирающихся стать матерями, так маленькая шляпа без украшений, облегающая как шлем, провозглашает решимость блюсти чистоту, презрение к чувственным возможностям жизни, приверженность к долгу и надменную глупость.
— Ты, может, не понимаешь, — продолжала она. — Не думай, я долго тянула. Помню, как преодолевала себя; когда начинала ясно видеть, помню, как что-то во мне раздражалось, беспричинно бунтовало.
— Лучше помолчи, — сказал я, садясь на кровать; я посмотрел на нее в кресле, мягкую и тяжелую, поворошил взглядом улыбку, которая растягивала ее щеки, как раньше их растягивала какая-нибудь нечаянная радость, тут же отделявшаяся от своего повода. — Не говори больше.
— Не хочешь меня слушать?
— Абсолютно. Я тебя не знаю. Все это печально и глупо, и ты тоже печальна и глупа.
— Печальна? — Она усмехнулась и вздохнула, чтобы я не обиделся. — Наверное, я плохо сделала, что приехала и с места в карьер пустилась в разговоры. Я думала написать тебе, а потом… поняла, что должна увидеть тебя.