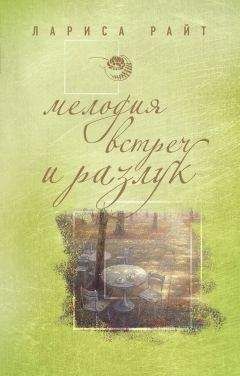— Но ты этого хочешь.
— Ты не можешь мне запретить этого хотеть.
— Могу. Я тебе запрещаю, слышишь?
Влад шокирован. Его мама, всегда нежная и покладистая, его мама, никогда не повышавшая на него голос, сейчас негодует и кричит.
— Мама, гнев — это грех. Тем более гнев не оправданный.
— Влад, детка…
— Не называй меня «деткой»!
— Хорошо. Ты просто поверь мне. Это не блажь.
— Мама, я попытаюсь, если ты объяснишь мне, что все это значит, и честно ответишь на вопрос.
— На какой?
— На тот, что я задал в письме.
— Я не понимаю, — мать отводит глаза.
— Понимаешь. Я хочу узнать, почему двенадцать лет назад вы с тетей решили, что я должен найти Алину и познакомиться с ней?
— Сынок, об этом надо было спрашивать Тоню. Насколько я знаю, она всю жизнь хотела исследовать натуру этой девочки, но, когда поняла, что время не позволит ей довести задуманное до конца, решила передать тебе эстафету. Разве это не так? Она ведь попросила меня вернуть ее письма, сказала, что это даст тебе возможность представить полную картину болезни. Я думаю, Тоня считала, что на этом материале ты сможешь написать статью или книгу, или получить степень, или, в конце концов, просто помочь человеку.
— Мама, ты ведь монахиня, — Гальперин устал слушать нелепый вымысел.
— Зачем ты это говоришь? — Она в замешательстве.
— А я психолог. Не забывай!
— Я не понимаю…
— Ты говоришь неправду, а я это знаю.
— Как ты можешь?!
— Нет, это как ты можешь? Я всегда знал, что ты — святая. Я верил: ты — лучшая. Но теперь я сомневаюсь. Или на эту свою ложь ты тоже испросила благословения?
— Сынок, — губы матери трясутся, — зачем ты так? Я клянусь тебе, что Тоня мечтала о том, чтобы ты завершил ее труд.
— Возможно. Но чего хотела ты?
— Я вообще не имела к этому никакого отношения! — Теперь она смотрит ему прямо в глаза, смотрит вызывающе. Кто бы говорил о смирении.
— Если это так, объясни мне свое странное поведение. Что ты можешь иметь против моих отношений с Алиной?
— Что я могу иметь против? Хорошо, я скажу. Шестнадцать лет писала мне Тоня об этой девочке. Мне кажется, я знаю ее лучше кого бы то ни было. Думаешь, я могу пожелать своему сыну женщину с таким количеством проблем? Думаешь, я могу спокойно смотреть на то, как ты собираешься испортить себе жизнь?
— А как же смирение, мама?
Она поджала губы и обиженно молчит.
— Мама, это переполох на пустом месте. Если я написал, что хочу попытаться снова найти ее, это вовсе не означает, что мне это удастся. А если и удастся, то ты лучше меня понимаешь, никто не знает, что из этого может получиться.
— Он знает! — Мать глубокомысленно поднимает вверх указательный палец.
— Вот и позволь ему решать.
— Сынок, я очень волнуюсь, — голос дрожит, глаза смотрят просительно. Мать явно решила сменить тактику. Гальперин, сколько себя помнил, знал: мама — образец спокойствия в любой ситуации. Чувства Влада к любой, даже самой недостойной, женщине никак не могли стать предметом ее душевных терзаний. Но если она желает на этом настаивать, он просто примет предложенные правила игры.
— Не волнуйся, мама. Не о чем волноваться! Она наверняка и думать забыла о том, кто такой Влад Гальперин. Она — известный фотограф. У нее, скорее всего, давно есть муж, дети. У нее счастливая жизнь, и ей совершенно незачем делиться ею с кем бы то ни было, тем более со мной. Уж если она не пускает к себе журналистов, врач-психиатр ей точно не нужен.
— Откуда ты знаешь, что она не пускает к себе журналистов? — Испытующий взгляд, прожигающий насквозь.
Влад лишь на мгновение замешкался с ответом:
— Это давно известно. Она их терпеть не может из-за бесконечных вопросов о старшей сестре. — Его волнение, однако, не ускользнуло от внимания матери. Она снимает с полки глянец, обложка которого Владу хорошо знакома.
— А может быть, ты это здесь прочитал?
Влад смущен. Отпираться бесполезно. Да, он читал эту статью и интервью Марии Кравцовой. Интервью было добрым, открытым. Приятно слушать женщину, вновь нашедшую счастье после трагедии: занимается любимым делом, живет с любимым человеком. «О чем еще можно мечтать?» — спросил у нее журналист. Она мечтала о том, чтобы ее простила младшая сестра, она извинялась перед ней на весь мир со страниц журнала. Далее шел не слишком приятный текст о причинах конфликта: не поделили мужчину, уличили в измене и еще целая корзина подобного «белья», разбирать которую Гальперин не стал. Но последние предложения он запомнил. Не мог не запомнить. Они грели ему душу и внушали оптимизм: «Известный фотограф Алина Щеглова по-прежнему живет в Москве со своей семилетней дочерью. Она тщательно скрывает свою личную жизнь от внимания прессы, но, насколько нам известно, в ней не происходит ничего, достойного внимания общественности. В просьбе прокомментировать свой конфликт со старшей сестрой г-жа Щеглова нашему изданию отказала». Влад не считал, что чья-то личная жизнь должна хоть сколько-нибудь привлекать «внимание общественности», но вынужден был признаться: он с удовольствием стал бы тем самым «жареным фактом», что сделает персону госпожи Щегловой достойной любопытства широкой публики.
— Ты права. Я это читал.
— И, может быть, здесь написано, что она безумно счастлива? Что она влюблена? Что она замужем, наконец?
— Мама, честно говоря, об Алине тут толком не написано ничего.
— Любой здравомыслящий человек может из этого «ничего» сделать вполне очевидные выводы. И, позволь заметить, я нас обоих отношу к людям, которым голова дана для того, чтобы соображать. Ты это прочитал. Ты это осознал. Ты решил действовать. И не говори мне, что это не так.
— Хорошо. Но и ты не говори мне, что эта статья попала к тебе случайно. Сама собой завалялась между Лопухиным и Скабаллановичем[17].
Мать пропускает это замечание мимо ушей, лишь небрежно отмахивается: мол, не имеет значения. Если бы Влад знал, что в большой обувной коробке, выглядывающей из-под кровати, хранятся вовсе не валенки, а подборка журналов с работами Алины и немногочисленными статьями о ней, подборка, превосходящая количеством его коллекцию материалов об этой женщине, если бы он только знал, он бы никогда не отступил. Но он об этом ведать не ведает, и приходится верить тому, что говорят:
— Была в Мурманске, увидела в киоске и купила. Вот и все. А потом это твое письмо…
— Мамочка, милая, мне сорок пять лет. Неужели ты думаешь, я все еще не способен сам разобраться в своей жизни?
— Некоторым подчас и ста лет не хватает.
— Вот и я не спешу. И твоей спешки не понимаю. К чему этот срочный вызов? К чему волнения? Ничего не произошло. Я ничего не сделал. — Влад искренне негодует. Злится и на себя, и на мать. На нее за то, что не желает объясниться начистоту, на себя за то, что не может разгадать истинных мотивов ее странного поведения.
Монахиня молчит. Смотрит на огарок свечи перед иконой Тихвинской Божьей Матери. Как, наверное, недовольна ею та, пред которой она еженощно преклоняет колени. Она-то, богородица, свое дитя не пожалела, не уберегла, не стала вмешиваться в ход событий. Женщине кажется, что образ смотрит на нее с осуждением. Не одобряет покровительница ее поступков, но сделать ничего не может. Даже своим пронзительным взглядом не заставит она монахиню полностью открыться сыну.
— Знаешь, Влад, есть такая древняя притча о Мастере Ма-Цзы. Возможно, мне, как православной, негоже тебе ее рассказывать, но, поскольку она не содержит никаких религиозных толкований, я все же позволю себе это сделать. Так вот. Этот самый Ма-Цзы решил показать своим ученикам состояние медитации и сказал им:
— Если вы произнесете хоть слово, я назначу вам тридцать ударов моей палкой, но если вы не произнесете ни слова, тоже — тридцать ударов моей палкой. Теперь говорите, говорите!
Один ученик вышел вперед и собирался просто поклониться Мастеру, но получил удар. Ученик запротестовал:
— Я не произнес ни единого слова, и вы не позволили мне произнести ни слова. За что же удар?
Ма-Цзы засмеялся и ответил:
— Если я буду ждать тебя, твою речь, твое молчание… слишком поздно. Жизнь не может ждать!
Так вот, сынок, жизнь не может ждать. И я не могу ждать, когда ты что-то сделаешь. Я хочу предотвратить это.
— Но почему, мама?
— Я тебе уже объяснила почему.
— И других причин нет?
— Нет.
— И ты ничего больше не скрываешь?
— Нет.
— Абсолютно ничего?
— Клянусь тебе! — слишком горячо и поспешно.
Влад снимает со стены образ:
— Поклянись на иконе.
— Если я сделаю это, ты обещаешь прислушаться к моим словам и не искать больше встреч с Алиной?
— Я постараюсь. Хотя по-прежнему нахожу твою просьбу чрезвычайно странной.