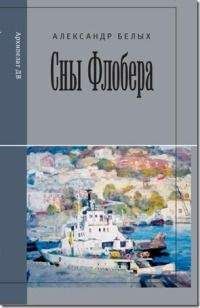Раскрасневшийся, голый по пояс Орест вошёл в дом с охапкой дров, положил у печки. От него пахло потом. Его запах заполнил комнату, защекотал ноздри. Злата налила в умывальник теплой воды, подала чистое полотенце. Румянец заливал его щёки. Она усадила его за стол, любуясь, как он уплетает приготовленный ею ужин из пойманной рыбы. Жар не спадал. Она потрогала его лоб рукой. Он пылал. Злата обеспокоилась, принесла градусник из аптечки, засунула ему под мышку, велела сидеть смирно. Орест был квёлым и усталым. Через пять минут она вынула запотевший градусник. Ртутный столбик подкатил к отметке 38 градусов.
— Да тебя лихорадит, мальчик мой! Сейчас я тебя уложу в постель.
Она пошла в комнату, застелила диванчик свежей простынкой, сменила наволочку на подушке, вынула из шкафа клетчатый плед. В комнате по углам собирался сумрак. Тьма надвигалась, как полчища пауков, пеленала его в удушливый кокон. Перед глазами Ореста кружили желтые мотыльки. Они быстро — быстро двигали крыльями и, попадая в сети пауков, конвульсивно бились в попытке вырваться на волю. Девушка помогала раздеться мальчику, стащила кирзовые сапоги. Его ноги пахли.
Пока он укладывался в постель, Злата пошла на кухню, приготовила липовый чай и таблетки. Мальчик уже засыпал, его лоб и грудь покрылись испариной. Злата приподняла его за плечи, дала выпить таблетки. Орест моментально уснул, выпростав руки наружу. Вдалеке проезжал полуночный пассажирский поезд, он ехал медленно, словно его колёса увязали во сне Ореста, во сне гарнизона, во снах детей на плечах пассажиров. Из темноты сверкнули два горящих кошачьих глаза. Ночь ощетинилась, фыркнула. Поезд подъезжал к станции, люди на вокзале оживились, стали выходить на перрон. Станционный смотритель с фонариком встречал пассажирский. Заскрипели, захлопали железные двери, вышли проводники. Люди с вещами стали подниматься в вагон, занимать свои места и укладываться спать. Колёса застучали, всё громче и громче, вагон задрожал, Орест кутался в плед, его знобило…
* * *
Солнечный свет упал на спящего мальчика — с него сползло на пол одеяло, обнажив грудь и колено. Его рука как бы потянулась за каким‑то предметом. Злата хотела поправить одеяло, но задержала взгляд на фигуре: свет создавал форму законченной картины. Она взяла бумагу и карандаш, покоившиеся до сих пор на большом круглом столе с тремя ножками. Злата присела на гнутый стул, который стоял против мольберта со вчерашнего дня. Спящий мальчик возникал из сочного солнечного воздуха. Её карандаш делал набросок: кушетка, обои, обнюхивающий пальцы мальчика чёрный кот — вот к кому тянется его рука!
В её воображении возник цикл картин с одним персонажем. Эта картина будет называться «Спящий мальчик в солнечном распятии». Затем появятся «Обнажённый в ирисах», «Фигура под зонтом» на берегу залива, «Играющий в карты» всё на той же стариной кушетке с валиками по бокам и высокой спинкой и другие.
На всех картинах будет рука, тянущаяся к чему‑то неведомому, может быть, к зрителю, находящемуся по ту сторону картины. Персонаж будто ощущает присутствие зрителя, отчего между ними возникает близость, родство.
Непрерывная линия света очерчивает обнажённую, слегка угловатую и асимметричную фигуру. Небольшой квадратик картины преобразуется в пространство, где рождается всё сущее из одного жеста. Через отражённое небо в застывшей болотной воде перешагивает обнажённый мальчик, занеся ногу, разбивает вечность и даёт начало времени.
Выступающая из тумана фигура привлекает взгляд сильней, чем ярко освещённый предмет. Кажется, что эта пристальность к миру вещей и явлений вовлекает зрителя в сосуществование, в однобытие с одиноким ирисом, к которому прикоснулась рука персонажа, с водой, с воздухом…
Как возникает событие в картине, где нет фабулы, где движение — только тень от ибиса, пролетающего над водой? Её картины выросли из одного жеста сонного мальчика, прикоснувшегося рукой к сновидению…
* * *
Злата уже сделала набросок, когда Орест стал пробуждаться. Он пошевелил рукой и убрал её под одеяло. Оно еще больше сползло, оголив лодыжку. Мальчик перевернулся на спину, открыл глаза. Комната была с двумя окнами — одно плотно зашторено, а другое занавешено ярким солнцем. Злата сидела в тени, за мольбертом, опустив карандаш. Плавные грифельные линии её рисунка ожили, превратились в движение. Потерянный ребёнок материнской любви, Орест потянулся. Он еще не понял, где находится: в доме или в казарме, или в интернате. Дневальный не кричал: «Рота, подъём!» Он хотел позвать: «Мама!» В смутном облике девушки в полутени угадывалась Злата — именно этим именем обозначалось самое драгоценное в его скудной жизни. Негатив будущего превращался в позитив настоящего. Орест застонал. Солнечный поток света заставил его крепко — крепко зажмуриться, чтобы никогда не просыпаться. Во что бы то ни стало он хотел остаться в своём сне, где всегда будет она, эта девушка за мольбертом. Конечно, Злата!
Мальчик, не видящий своей наготы, встал ей навстречу и протянул руки, сказал почти шёпотом:
— Я потерял тебя! Мне приснилось, что я потерял тебя.
Всю свою маленькую жизнь он кого‑то искал: мать, отца, друга, советчика. Но кого именно, он уже не помнил, а когда встретил Злату, то подумал, что он искал её и больше никого, и в тот же миг испугался, потому что, открыв глаза, он увидел, как его сон рассеивается вместе с ней, оставляя бесплотные тени. Её не было.
— Moja siostra!
* * *
Поезд мчался, огибая подкову залива. Солнце выплеснуло остатки бронзы и охры на поросшее камышом болото; журавли на воде отбрасывали длинные тени, взломанные зыбью. Десять лет назад Орес и Злата ехали целую ночь на поезде в город на экскурсию, а в общем‑то по магазинам. Он спал на верхней полке, она — на нижней. Его снарядили в помощники, носить сумки.
С тех пор это воспоминание стало для него заповедным, никто никогда не захаживал на территорию утраченной любви. Если с его языка невольно слетали польские слова — dobranoc, do widzenia, kolezanka, przepraszam, — то они звучали для него как шифры, как знаки, как символы. Это были не просто слова, а обломки огромного мира. Он говорил, что если в нём произвести раскопки, то можно найти какое‑то сокровище. Марго в это не была посвящена и не догадывалась, что свою любовь к ней Орест сравнивал с первой влюблённостью…
АЭРОПОРТ — НИИГАТА — ТОКИО
Вспомнив обрывки сна, Орест подумал не без усмешки, что это, вероятно, не что иное, как болезненное воспоминание или галлюцинация гоголевского персонажа господина Голядкина, который проделал за одну ночь головокружительную карьеру от конюха княгини Клавдии Фёдоровны до её любовника, а потом вора, укравшего её фамильный бриллиант. Точнее говоря, эта прискорбная история, случившаяся с известным героем русской прозы, представлялась Оресту неким знаком, предупреждением.
Орест не раз ловил себя на мысли, что он всего — навсего обыкновенный сосуд, да, пустой сосуд — кувшин или амфора — долгое время валявшийся где‑то без надобности, и кому‑то нужно было подобрать его и поселить чью‑то заблудшую душу, которая всё ещё помнит свои тяготы, страхи, лишения, стыд, провинности и сны. Может быть, это душа господина Голядкина, наконец, обрела пристанище в теле Ореста после долгих скитаний?
Он не мог отделаться от ощущения, что живёт не своей, подлинной, жизнью, а чей‑то чужой, словно персонаж дурной книги. На всякий случай, чтобы удостовериться во вздорности своих догадок, он полез в дорожную сумку, где хранились не отобранные на советской таможне подарки.
Как водится, это были расписные матрёшки. «Должно быть, внутри них хранится ворованный Голядкиным бриллиант», — мелькнула озорная мысль в голове Ореста. Матрёшки;… Как три слепца — царь Эдип, Гомер и маленький Борхес. Кроме матрёшек, в его сумке лежала рукопись Марго, завёрнутая в плотную серую бумагу и перетянутая бечевкой.
За окном сменился пейзаж. Рисовые делянки вспыхивали на солнце. Поезд промчался через тоннель, как нитка сквозь игольное ушко; обвал света, снова тоннель; заснеженные остроконечные горы, оперённые соснами или криптомериями, поля, поля, поля, кривоногие сосны у ворот храма, маленькие города — вжик, и нет их, словно какой‑нибудь редактор вычеркнул их из текста одним росчерком пера! — красные черепицы крыш, Фудзи — сан, сто видов Фудзи, которую тащит на своих плечах бедная улитка; вот она остановилась, перевела дыхание, вытянула рожки, огляделась и снова тронулась в путь, в тысячелетний путь; ползущие по рекламным щитам иероглифы, столичное предместье. «…Местье, местье, месть, и месть, и месть, и вместе…» — выстукивали колёса в голове Ореста, в голове засыпающего читателя.
* * *
— Вот мы уже подъезжаем, — сказал Ямамото, попутчик Ореста.
Ямамото, студент, был собирателем дальневосточных бабочек. «Ну как, бабочку — чжуанцзы поймал?» — шутил Орест. Они с Орестом познакомились в аэропорту на российской таможне. Родинка на правой щеке японца медленно переползла под глаз, словно какой‑нибудь энтомологический экземпляр, и снова нехотя вернулась на прежнее насиженное место. Орест что‑то ответил и снова погрузился в свои размышления, которые потекли в несколько философическом русле.