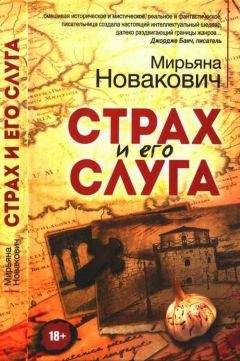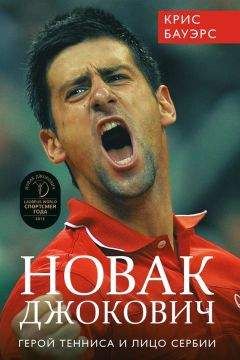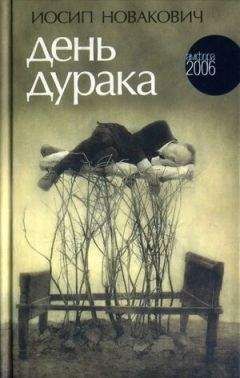Новак схватил меня за руку:
— Герцогиня, я пойду вниз. Вы оставайтесь здесь. Вниз пойду я. Может быть, меня им будет достаточно.
— Ты слышишь их? Их там тысячи. Тысячи. Им одного тебя не хватит. Я пошла с вами, чтобы спуститься. Пойти вниз. Не ждать, а посмотреть им в глаза.
— Хозяин не спустится, — сказал Новак.
— Разумеется, я никогда не спускаюсь. Идите вдвоем. Я не обижусь.
— Вы чувствуете запах серы? — спросила я, подумав, что снизу несет смрадом ада.
— Не беспокойтесь насчет серы, — сказал Новак, — в цистерне и без того воняет.
— Вот именно, — проговорил фон Хаусбург и прислонился спиной к запертой двери. Пистолет он прижимал к сердцу.
— Новак, можешь спокойно отправляться вниз. Все, что я мог рассказать тебе, я рассказал. Рассказ закончен. Слушать тебе больше нечего. А вы герцогиня, вы сами приняли решение. Идите.
Больше мы не сказали ни слова. Молча прошли несколько шагов до низкой деревянной двери, за которой был вход на винтовую лестницу. Напротив была точно такая же дверь, которая вела на другую лестницу. Первая лестница служила для спуска, вторая — чтобы подняться наверх, и использовалась только тогда, когда колесо, с помощью которого черпали воду, не работало. Оно было исправно, но воду в тот момент не доставали. Я сказала Новаку, что правильнее будет пойти по разным лестницам, ведь если мы пойдем вместе, то можем разминуться с вампирами. И еще сказала, что я пойду по той, которая предназначена для подъема. Я была уверена, что вампиры полезут наверх именно по ней. И поэтому выбрала ее. Новак не возражал, должно быть, все это даже не пришло ему в голову. Или он не знал назначения каждой из лестниц. Он повернулся, и я слышала его шаги, пока он обходил горловину цистерны, а потом услышала и скрип двери.
Голоса становились все громче. Они сливались в общий говор. В один язык. Я не понимала слов не потому что этот язык, возможно, и не был сербским, а потому что все говорили разное, но в один голос. Как самые лучшие церковные хоры, какие мне доводилось слышать во время православных богослужений по большим праздникам: в общем безукоризненно слаженном пении был различим каждый голос.
Я открыла дверь. Чтобы пройти в нее, пришлось нагнуться. Ступеньки были скользкими от влаги. Запаха серы я больше не чувствовала. Начала медленно спускаться. Было больно. И очень трудно, словно я не спускалась, а поднималась наверх. После нескольких ступенек приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть, сделать глубокий вдох и выдох, собраться с силами. К счастью, освещение было хорошим.
Снаружи остался ангел, который своей украшенной перстнями рукой указал на вход в водопровод. Снаружи остался мой муж, который меня обнял. Он обнимал меня и спрашивал, не превратилась ли я в вампира. Он не сбежал. Не сделал вид, что не знает меня. Что меня не видит.
Голоса эхом отдавались у меня в ушах. Мне хотелось запеть, запеть что угодно, только чтобы слышать себя. Чтобы знать, что я здесь и что я сильнее их.
Лестница вилась и вилась бесконечно. Изгиб за изгибом. Спускаться становилось все труднее. Каждый шаг был мучением, болели все мышцы ног. Дыхание прерывалось. Теперь при каждой остановке я хватала воздух ртом так, словно его почти не осталось.
Казалось, я никогда не дойду до дна. Казалось, что прошло уже много часов. Я была мокрой от пота, в ушах гудел хор голосов, доносившихся снизу. Он был таким громким, как будто гремел мне прямо в ухо.
И вдруг оказалось, что очередного изгиба лестницы нет. Нет больше и ступенек. Посмотрев в окошко в стене, я увидела воду. Значит, пришла. Я медленно сделала несколько шагов. Увидела, что передо мной арка, ведущая в какой-то зал. Голоса доносились именно оттуда. И я вошла.
Зал был огромным. Самым большим из всех, где я в жизни бывала. Стены его были так далеко, что их не было видно. И этот зал был переполнен. Людьми. Или вампирами. И все говорили вслух. Среди них я сразу же разглядела Вука Исаковича. А рядом с ним стоял он же, но гораздо старше. И он показался мне знакомым. В нескольких шагах от него я увидела Саву Савановича. Голоса вдруг стали такими громкими, что я перестала их слышать. Воцарилась полная тишина. Один из них сделал шаг вперед, отделившись от них. Его лица я никогда раньше не видела. И позже тоже. С его плеч ниспадал пурпурный плащ.
Что вы говорите? Не слышу!
А-а, я должна рассказать вам историю. Об искусстве. С того китайского обеда. Что, прямо сейчас? Не потом. Именно сейчас.
Хорошо.
Видите ли, эта история, хотя я о ней действительно упомянула, она вообще не моя. Мне ее рассказали.
Да. На маскараде. Рассказал человек, переодетый в дьявола. Мой муж что-то спросил, не помню, что именно, а, может быть, я даже и не слышала. И дьявол начал рассказывать. То, что он говорил, я повторила во время обеда насколько смогла точно.
Он говорил, что он на самом деле дьявол и что действительно участвовал в тех событиях. У него была самая безукоризненная маска на маскараде. Потому что маска это не только ткань костюма или парик, настоящая маска это история, рассказ.
А говорил он, а потом и я, следующее:
«Знаете ли вы, что такое искусство? И какая разница между искусством и миром. Его выдумал я. Создал. Нет, я не говорил: „Да будет искусство“, это не мой стиль.
Было это на седьмой день, когда он отдыхал. От чего он отдыхал? На самом деле от чего, спрашиваю я вас. Шесть дней он говорил: да будет то, да будет сё. И устал. Кстати, хочу напомнить, сейчас как раз к слову: меня он изрек первым. Создал. Потому что первым делом он сказал: „Да будет свет“, и возник я. Потому что я — Люцифер, я — свет. И знаете, другие ангелы мне этого так никогда и не простили. Особенно Михаил.
Итак, на седьмой день он отдыхал, а нам, ангелам, велел нарисовать по картине, чтобы потом он выбрал самую лучшую. Мы принялись за работу. Я знал, что буду рисовать. В начале мне, правда, было не совсем ясно, но по мере того как дело продвигалось, я все лучше понимал собственное произведение.
Время от времени я переводил взгляд со своей картины на него. На этого старца, мрачного, в дурном настроении. Он сидел на гранитном престоле, откинувшись на спинку, задумчивый, усталый. Левый глаз голубой, правый — карий. Я думал, а, может быть, ему не нравится то, что он создал, или он прикидывает, не вернуть ли все в то состояние как оно было, не обратить ли все в ничто. Как долго он был один, знает только он сам, и, может быть, его, как любого одинокого старика, злят шумные дети, и он с тоской вспоминает тишину и покой? Что он хотел нам сказать: „Да не будет“ или с насмешкой „Да будет вам“? Но я уверен, что много раз позже, после седьмого дня, он, сломавший не один посох на пути по разным странам, изодравший не одну пару башмаков на дорогах из города в город, он, этот бородатый старик, который ни разу до нас не снизошел, всегда нас жалел.
Он сказал: „Изобразите мне мир“, и мы изображали. Я не был бы тем, что я есть, если бы исподтишка не заглядывал в чужие картины. Видели бы только вы мазню Ариэля! Это была просто пачкотня! И к тому же жалкая лесть. Нарисовал его, веселого, на престоле, в сто раз более крупного, чем мы, все остальные. Люди размером с муравьев, Мы, ангелы, не больше мухи. На картине не было ночи и не было моря.
Видел я и картины ангелов более низкого звания. Они просто все в точности перерисовали. Все было абсолютно так, как есть, и было почти невозможно отличить картину от реальности. Такие произведения я тоже считал лестью.
К моей досаде, Михаил был далеко от меня, и мне не было видно, что делает он. Я долго выдумывал предлог, под которым мог бы бросить ненадолго свое занятие и прогуляться в сторону Михаила. В голову ничего не приходило. Видимо, потому что я слишком увлекся собственной работой.
Я потел. Выдумывал. Радовался. Потом волновался. Исправлял. Восхищался. Сомневался. Стирал. Создавал из тумана, из темноты, угадывал, притрагивался. Понимал все больше и больше.
В самом низу я поместил море…
— Вы работали бамбуковыми чернилами по шелку? — прошептала Жанна Орлеанская.
— Что?! По шелку?! Бамбуковыми чернилами?! Но… — я расхохотался, — вы не поняли. Я работал… Вы еще услышите.
Итак, внизу бесконечные морские волны, над ними берег. В море судно, разломленное силой воды на две части. Судно тонет, моряки прыгают в воду. Лодок мало, но некоторые добираются до берегов, а берега разные, от ласковых, песчаных, мягко уходящих в воду, до крутых, скалистых, резко обрывающихся, подобно некоторым человеческим жизням, в нижней части картины. Не забываю ничего, рисую и пальмы, и кипарисы, и кустарник, виноградники источают сладкий аромат, пахнут рощи корявых оливковых деревьев. Козы, ослы, загорелые мужчины и женщины, дни которых мирно текут один за другим. Дальше картина поднимается в горы, там сливовые сады и свиньи. Тут и там разбросаны села, люди посвистывают, падает ночь. Месяц и Утренняя звезда бдят и разговаривают друг с другом. В одной приятной долине, а отчасти и на холмах, белеет первый город. Его стены высоки и толсты, гонцы ударяют металлическими кольцами в городские ворота. Внутри городских стен все кипит, слышен лай собак и удары кузнецов по наковальне. Приятно пахнут сладости, воняют отбросы, улицы вымощены булыжником, по ним со скрипом ползут повозки. Возле домов играют дети. И никто не видит войско, которое движется с юга, грозно шагая под визг зурны и ритмичный бой барабанов. Войско еще далеко, где-то в долине, разделяющей высокие горы. В другом городе сидит женщина, она обмахивается веером, день душный. На веере я нарисовал все, что уже нарисовал. Еще один такой же мир, но бесконечно меньший и совершенно ненастоящий. Его я рисовал бамбуковыми чернилами. Мимо детей, играющих во время школьной перемены, проезжает повозка, пшеница смотрит на повозку. Стоит лето, жизнь легка и хлопок высок. Рыбы резвятся в ручьях, змея извиваясь ползет в высокой траве, готовая укусить того, кто на нее наступит. Ее глаза зелены, как изумруды, кожа гладкая и блестящая. Недалеко от нее осажденный город. В войске, окружившем город, раздоры, светловолосый великан не хочет сражаться, но вскоре, когда погибнет его товарищ и любовник, все изменится. Вот человек возвращается домой после долгого отсутствия и застает в доме женихов, сватающихся к его собственной жене. Она вяжет и всегда вывязывает мир таким, каким я его уже создал, но каждое утро распускает связанное, и мир исчезает. И этот мир тоже ненастоящий, потому что он из шерсти. И потому что его можно уничтожить. А дальше, в стороне от нее, я многих посылаю в дорогу. Рисую тропинки и императорские пути, всем желанные. Но есть и те, кто мучается по горам, по долам и обходит стороной населенные места, их цели лежат за пределами известных путей.