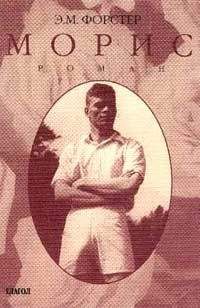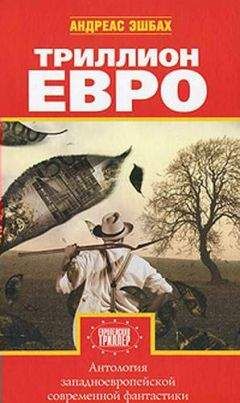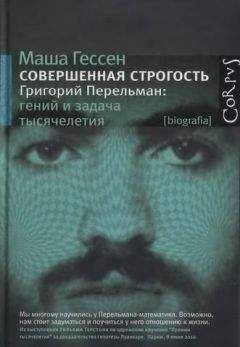Болезненное наваждение удерживало его в каюте Скаддеров, заставляло слушать их вульгарщину и выискивать в их жестах мимику друга. Он старался казаться любезным, втереться к ним в доверие, но у него ничего не получалось, ибо вся его самоуверенность куда-то подевалась. Его оцепенение прервал чей-то тихий голос:
— Добрый день, мистер Холл.
Он ничего не сумел ответить. Изумление оказалось слишком велико. Это был мистер Борениус. И оба они запомнили ту первоначальную немоту Мориса, его испуганный взгляд и проворное движение, каким он вытащил изо рта трубку, словно курение запрещалось духовенством.
Мистер Борениус скромно представился собравшимся; он прибыл, чтобы проводить юного прихожанина, благо расстояние от Пенджа не столь велико. Они обсудили, каким путем доберется сюда Алек — оказалось, есть некоторый выбор — и Морис постарался улизнуть, поскольку ситуация стала двусмысленной. Однако мистер Борениус остановил его.
— Идете на палубу? — полюбопытствовал он. — Я с вами, с вами.
Они вышли на воздух, под яркое солнце. Вокруг, обрамленные лесом, простирались золотые берега Саутгемптонской бухты. Но Морису казалось, что очарование вечера предвещает несчастье.
— Это очень мило с вашей стороны, — начал священник с места в карьер. Он говорил как социальный работник с социальным работником, но Морис чувствовал в его голосе притворство. Он попытался ответить — две-три обычные фразы спасли бы его — но слова не шли на ум, и нижняя губа у него дрожала, как у обиженного мальчишки. — Тем более мило, что, если я правильно помню, вы разочаровались в юном Скаддере. Когда мы обедали в Пендже, вы признались мне, что он «показался вам немножко свиньей», каковое выражение, будучи применено к человеческому существу, немного меня покоробило. Я не поверил глазам, когда увидел вас здесь, среди его друзей. Уверяю вас, мистер Холл, он оценит ваше внимание, хотя может и не показать вида. Люди вроде него более впечатлительны, нежели представляется стороннему наблюдателю. И к добру, и к злу.
Морис попытался остановить его вопросом:
— А как же вы?
— Я? Почему приехал я? Вы, конечно, посмеетесь. Я приехал, чтобы передать ему рекомендательное письмо англиканскому священнику в Буэнос-Айресе, в надежде, что он примет конфирмацию, когда высадится в Аргентине. Абсурд, не правда ли? Но, не будучи ни эллинистом, ни атеистом, я придерживаюсь мнения, что поведение человека напрямую зависит от его веры, и что если человек «немножко свинья», то причину следует искать в неверных представлениях о Боге. Там, где наличествует ересь, рано или поздно возникает распущенность. А вы, как вы узнали точное время отхода корабля?
— Из… из объявления в газете.
Дрожь пробегала по всему его телу, и одежда прилипла к коже. Казалось, он опять школьник, опять беззащитен. Он был уверен, что пастор догадывается, или, даже, что волна прозрения уже позади. Человек мирской ничего и не заподозрил бы — например, мистер Дьюси — но этот человек, будучи лицом духовным, обладал особым чутьем и мог распознавать невидимые эмоции. Аскетизм и благочестие имели свою практическую сторону. Они могли породить интуицию — понял Морис, слишком поздно. В Пендже ему казалось, что бледный пастор в сутане никогда не сумеет постичь мужскую любовь, однако теперь он знал, что у человечества нет тайн, которые, под ложным углом, не рассмотрела бы церковь, что религия гораздо проницательнее науки и что, всего лишь прибавив к интуиции здравомыслие, она могла бы стать величайшим изобретением на свете. Сам лишенный религиозного чутья, Морис и в других его прежде не встречал, поэтому потрясение оказалось страшным. Он боялся и ненавидел мистера Борениуса, ему хотелось его убить.
И Алек — когда он сюда придет, он тоже угодит в ловушку; они ведь люди маленькие, им нельзя рисковать — они не того полета, что, к примеру, Анна и Клайв — и мистер Борениус, зная это, накажет их всеми средствами, что в его власти.
Голос возобновился. До этого была минутная пауза на случай, если жертва вздумает ответить.
— Да. Откровенно говоря, мне отнюдь не легко с молодым Скадцером. Когда он уезжал из Пенджа прошлый вторник — к родителям, по его словам, впрочем, до них он добрался только в среду — я имел с ним крайне неприятный разговор. Он упрямился. Он мне перечил. Когда я завел речь о конфирмации, он ухмылялся. Факт состоит в том — я бы об этом не упомянул, если бы не ваше милосердное участие в этом юноше — факт состоит в том, что он виновен в излишней чувственности. — Последовала пауза. — К женщине. В свое время, мистер Холл, всякий начинает узнавать эти ухмылки, это упрямство, ибо блуд простирается гораздо дальше непосредственного поступка. Было бы это просто поступком, я первый не наложил бы на него анафемы. Но когда целые нации пускаются в разврат, они неизбежно заканчивают отрицанием Господа, так я полагаю, и пока все сексуальные нарушения, а не только некоторые, не станут уголовно наказуемы, церковь не отвоюет Англию. У меня есть причина думать, что он провел ту ночь в Лондоне. Но утверждать наверняка… Должно быть, это его поезд.
Он спустился ниже, и Морис, совершенно разбитый, поплелся за ним. Он слышал голоса, но не понимал их; один из них мог принадлежать Алеку — только это имело для него смысл. «И опять все пошло кувырком», — пульсировало в мозгу, как летучая мышь, летящая в сумерках. Он вновь оказался в той курительной комнате у себя дома, с Клайвом, который говорил: «Я больше не люблю тебя, прости», и он чувствовал, что жизнь его будет кружить годичными циклами, всегда оканчивающимися одним и тем же затмением. «Подобно солнцу… это отнимает год…» Он думал, что с ним беседует дед; затем туман в голове рассеялся, и перед ним стояла мать Алека.
— Это не похоже на Лекки, — пробурчала она и исчезла.
А на кого похоже? Пробили склянки, просипел гудок. Морис взбежал на палубу; к нему вернулись способности, и он необыкновенно отчетливо смог разглядеть толпу людей, разделяющихся по признаку: эти остаются в Англии, те отплывают, — и он знал, что Алек остается. День рассветился великолепием. Белые облака проплывали над золочеными водами и лесами. В центре живой картины бесновался Фред Скаддер, поскольку его ненадежный братец опоздал на последний поезд; женщины протестовали, теснясь на сходнях, а мистер Борениус и старый мясник на что-то сетовали членам экипажа. Какими ничтожными они стали на фоне прекрасной погоды и свежего воздуха.
Морис сошел на берег, пьяный от возбуждения и счастья. Он наблюдал за маневрами парохода, и вдруг корабль напомнил ему похороны викинга, взволновавшие его, когда он был мальчишкой. Ложная параллель, и все-таки судно казалось эпическим, оно уносило прочь его смерть. Пароход отчаливал, Фред собачился, но вот корабль вырулил в пролив и под ликующие крики наконец-то отошел, жертвенный, величавый, оставляя за собой дымок, тающий на закате, и борозду, расходящуюся и пропадавшую у лесистых берегов. Долго смотрел он ему вслед, затем развернулся в сторону Англии. Путешествие его почти завершилось. Он направлялся в свой новый дом. Он воспитал в Алеке мужчину, и теперь был черед Алека воспитать в нем героя. Он знал, что это за призыв, и каков будет его ответ. Они должны жить вне классов, без родни и без денег; они должны трудиться и не разлучаться до самой смерти. Но Англия принадлежала им. И это, помимо общения, было их наградой. Ее воздух и ее небо принадлежали им, а не тем боязливым миллионам, что владели лишь душными коробками, но никак не своими душами.
Он лицом к лицу столкнулся с мистером Борениусом, который утратил всякое ощущение происходящего. Алек его окончательно доконал. Мистер Борениус полагал любовь между мужчинами немыслимой, поэтому он не мог истолковать того, что случилось. И он сразу стал обыкновенным человеком, исчезла вся его ирония. В прямой и глуповатой манере он обсуждал, что могло приключиться с юным Скаддером, а потом пошел навестить друга в Саутгемптоне. Морис крикнул ему вслед:
— Мистер Борениус, посмотрите на небо — оно горит огнем!
Но священник не видел проку в небе, горевшем огнем, и спешно ретировался. В своем возбуждении Морис чувствовал, что Алек где-то рядом. Конечно, он не мог быть здесь, он был где-то еще, в блеске и великолепии, где его еще надо было найти. Без малейшего промедления Морис отправился в лодочный сарай, что в Пендже. Этот адрес вошел в его кровь, он был символом и надежд Алека, и его угроз, а также символом обещания, которое он сам дал в последнем отчаянном объятии. Этот адрес был единственным путеводным знаком. Он выехал из Саутгемптона так же, как приехал туда — инстинктивно, — и почувствовал не просто то, что все на сей раз кончится хорошо, но и то, что иначе закончиться не может и что во вселенной наконец-то все стало на свои места. Маленький местный поезд исправно выполнял свои обязанности, роскошный горизонт еще пылал, а также пламенеющие облачка, что продолжали пламенеть и после того, как главное великолепие потухло, и ему хватило света, даже чтобы добраться пешком от станции в Пендж по тихим полям.