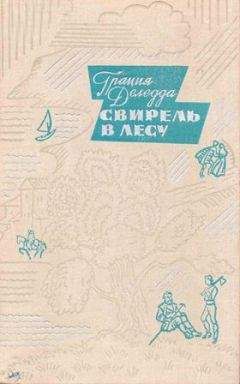Это был больной вопрос. Джина почувствовала, что даже покраснела, ей показалось, будто волосы ее стали такими же рыжими, как у священника. Но, подумав, что она ведь не на исповеди в церкви, согласилась, что и на самом деле не очень-то уважает чужое добро.
— Когда я вижу виноград, я всегда его рву. Я очень люблю его! — воскликнула она и пристально поглядела в лицо священника, как бы желая спросить: а вы разве не любите? — А один раз мне попались груши, прямо с голову величиной, я и взяла две... Всего две, — повторила она и, растопырив средний и указательный пальцы, показала их священнику. И в порыве искренности добавила: — А если удастся, стащу и остальные!
Нет, остальные ты не тронешь, — сказал он строгим голосом, но улыбаясь. Однако улыбка сползла с его губ, когда Джина скорчила гримасу, которая означала: «А кто мне помешает?»
— Я и курицу стащила, — продолжала она, чуть ли не хвастаясь своими подвигами, — но потом выпустила, потому что боялась, что отец побьет меня. А еще взяла башмак моего двоюродного брата Ренцо, но это просто так, назло ему. Башмак я кинула потом в воду. А еще...
Дальше шло что-то серьезное. Она сама поняла это и в испуге остановилась. Священник ободрил ее:
— Что еще? Говори же!
— Еще я взяла бабушкины серьги. А она думает, что это Вика-горбунья унесла их, та, которая берет все, что плохо лежит, и никто не говорит ей ни слова, — ведь все боятся, что она накличет беду.
— Куда ты дела серьги? — с удивительной мягкостью спросил священник.
Джина молчала. Свесившись через край лодки, она как бы разглядывала что-то в воде, которая тихо плескалась за бортом.
— Не бросила же ты их в воду, правда? Что ты сделала с ними, Джина?
Голос священника звучал странно: таким голосом говорят мальчишки, когда подбивают друг друга на какую-нибудь шалость. Джина приподняла голову и, выругавшись, сказала:
— Ну, понятно, я их не съела. Я их спрятала.
Где спрятала? Дома или здесь?
Она порывисто вскочила. Вся ее маленькая фигурка дышала негодованием. Она была возмущена наивностью священника. Что она, дура, прятать краденое в собственном доме? В ее сузившихся глазах маленькой тигрицы заиграла коварная улыбка. И тут она открыла самый большой свой грех:
— Я спрятала их в лодке Нигрона.
Теперь и священник вспыхнул от гнева.
— Что ты натворила, Джина! — воскликнул он, всеми силами стараясь сохранить мягкость голоса. — Ведь если их найдут, мальчика будут считать вором!
— А разве он не вор? Вор!
— Какая же ты дрянная девчонка, — сказал с отчаянием священник, приглаживая рукой свои огненные волосы. Он понял, что полумерами тут ничего не добьешься. Он выпрямился и, сурово взглянув на нее, надел шляпу. Даже голос у него изменился, а в его черной фигуре появилось что-то угрожающее.
— Это ты, а не Нигрон, сущая дочь дьявола. А если ты и дальше будешь себя так вести, то дьявол придет за тобой однажды вечером и утащит в адские леса. Истинно так!
Это предсказание произвело желанный эффект. Джина побледнела и снова прикрыла глаза ладонью.
— Ты хоть креститься-то умеешь?
Она перекрестилась, но левой рукой. Перед ее внутренним взором возникла картина адского леса, где вокруг пылающих куч угля, гримасничая, пляшет тысяча дьяволят, похожих на Нигрона, и, оцепенев от ужаса, она сказала каким-то тонким лягушачьим голосом:
— Я приду... приду...
Она хотела сказать: приду на исповедь, не подозревая, что ее первая исповедь только что окончилась.
Хижина с привидениями
(Перевод В. Торпаковой)
Во время долгих летних прогулок я часто останавливалась отдохнуть на холме, с которого открывался вид почти на всю сосновую рощу до самого моря. На вершине холма стояла хижина, сколоченная из досок, скрепленных между собою полосками жести и гвоздями с огромными, как каштаны, шляпками.
Хижина, вся почерневшая, будто после пожара, всегда была заперта. Больше того, на первый взгляд казалось, что у нее вообще нет ни окон, ни дверей. Поэтому она и привлекла мое внимание. Я с ребяческим любопытством обошла ее со всех сторон, осторожно ступая по узкому, поросшему травой уступу холма, и обнаружила два боковых окошка и петли еле различимой двери. А когда я прислушалась, мне почудилось, что изнутри донесся слабый крик, или, вернее, жалобный плач новорожденного.
Обуздав готовую разыграться фантазию, я огляделась вокруг и поняла, что звук этот издает надломленная ветром сосновая ветка, медленно отделяясь от ствола дерева. Я села на край поросшего травой уступа и подумала, что у деревьев тоже, наверное, есть свои трагедии и что эта умирающая ветка — совсем еще молодая, усыпанная шишками, будто отлитыми из чеканной меди, — должна была много выстрадать, прежде чем начала изливать свою боль в звуках, так похожих на человеческий голос.
В сосновой роще всегда было многолюдно. По ее тропинкам-артериям, как по улицам города, непрерывным потоком двигались люди. Кроме компаний, приезжавших на пикник, нагруженных сумками с едой и фотоаппаратами, там можно было встретить женщин с тележками, полными хвороста, рабочих, занятых на мелиоративных работах, которые велись по ту сторону рощи, и мальчишек, мальчишек, множество мальчишек! Мальчишки представляли как бы постоянное население рощи и знали, конечно, самые заповедные ее уголки. Воздух оглашался их криками и визгом, который смешивался с карканьем серых ворон, а на землю то и дело со стуком падали шишки, ловко сбитые камнями.
У одного из этих мальчишек я и спросила, для чего здесь, на вершине холма, открытая всем морским ветрам, стоит эта хижина, почерневшая и заколоченная, как склеп.
— Раньше в ней жил сторож, а теперь там водятся привидения! — крикнул мальчуган и убежал, взглянув на меня с некоторой опаской, будто одно то, что я сидела на вершине холма, делало меня причастной к миру нынешних обитателей хижины!
Должна признаться, что привидения, которые охотно селятся в больших городских домах и даже в гостиницах, никогда не вызывали у меня антипатии, а к этим, из хижины, я испытывала чувство живой признательности, ибо благодаря им мое излюбленное место отдыха всегда оставалось свободным и чистым. Теперь мне стало ясно, почему мальчишки, хозяева сосновой рощи, никогда не поднимались на вершину, а веселые компании обходили этот уголок стороной. Общество мое составляли лишь полчища муравьев — соседство, конечно, не из приятных, но избавиться от него было нетрудно. Стоило бросить муравьям кусочек хлеба, как они, оставив меня в покое, облепляли хлеб так густо, что он становился черным, как ягоды ежевики, которая росла вокруг.
И вот однажды, когда я сидела на своем обычном месте, с интересом наблюдая за поведением муравьев, какая-то женщина, держа в руке букетик лиловых цветов, туго-натуго перевязанных, как это обычно делают крестьянки, — взошла на вершину холма и опустилась на колени перед наглухо запертой дверью хижины. Стоя на коленях, она стала креститься, прижимать букетик к груди, шептать молитву и вздыхать.
Женщина была высокого роста, очень худая, с золотисто-смуглым лицом цыганки и цыганскими же косами, выбивавшимися из-под платка, концами которого она вытирала слезы. И я снова подумала, что стены этой хижины охраняют чью-то могилу.
Но самым странным было то, что после всех своих вздохов и молитв женщина положила цветы у порога хижины, уселась неподалеку от меня, вытащила из кармана широкой юбки сверток с едой и как ни в чем не бывало принялась завтракать. Ела она не торопясь, с аппетитом, смакуя каждый кусочек булки с ветчиной; так едят дети, когда они не очень голодны. От удовольствия лицо ее порозовело, и это ее очень красило. Окончив трапезу, женщина стряхнула с платья крошки, скомкала бумагу, в которую был завернут завтрак, и сунула ее обратно в карман, а затем обернулась ко мне и, глядя на меня ярко-голубыми глазами, сказала на местном наречии:
— А теперь не худо бы выпить стакан воды!
Так завязалось наше знакомство, и я со своей стороны сочла нужным сказать женщине, что в нескольких шагах отсюда есть родник.
Она бросила быстрый взгляд на тропинку, ведущую к роднику, и лицо ее сразу пожелтело и осунулось: морщинки появились вокруг смеющихся глаз, которые как бы увяли, словно цветы горечавки.
— Сколько раз ходила я этой дорогой! — сказала она и прикрыла лицо рукой, чтобы не видеть тропинки и всего, что было вокруг.
Я поднялась и подошла к ней ближе, почувствовав, что в воздухе запахло какой-то драмой.
— Что произошло в этой хижине? Почему она заколочена? Это правда, что там водятся привидения? И почему...
Женщина сразу же оживилась. Правда, скачала сна было замахала на меня руками, как бы говоря, что слишком уж много я хочу знать, но так как ей и самой, видно, не терпелось поговорить и отвести душу, она без околичностей приступила к своему рассказу: