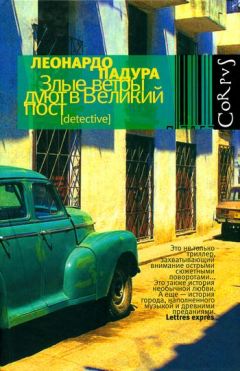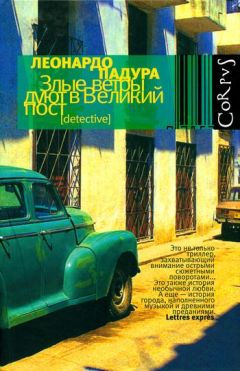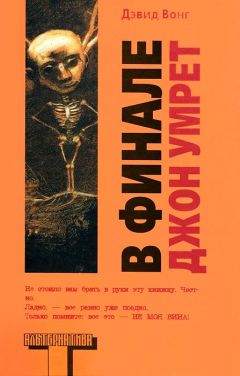— У меня никакого желания нет, поверь. Единственное, чего мне хочется сейчас, — повалиться на кровать, накрыть подушкой голову и проснуться лет эдак через десять.
— Косить под Рипа Ван Винкля[34] на такой жаре? Совсем отощаешь и ничего не добьешься. И ради этого махнешь рукой на десять чемпионатов, сотни бутылок рома и даже какую-нибудь женщину, которая играет на виолончели? Слушай, а ты можешь поклясться, что саксофон лучше виолончели? Но самое хреновое — я буду жутко скучать, пока ты не проснешься.
— Утешил, называется.
— И не думал тебя утешать, наоборот, собираюсь плюнуть в твою гнусную рожу, если ты не выкинешь из головы эту дурь. Пошли поедим, а то уже скоро Кролик с Андресом заявятся. Как здорово, что мы едем на стадион только вчетвером, по-моему, это дело чисто мужское, а?
И опять Конде почувствовал, что у него пропало всякое желание спорить. Он позволил завлечь себя под сень дружбы — может быть, единственное безопасное убежище, предназначенное ему на войне, в которой, если дальше так пойдет, очень скоро окажутся разбиты все его оборонительные сооружения.
— Сегодня у меня не было вдохновения, — предупредила Хосефина, когда они сели за стол. — И никаких продуктов, кроме курицы. Так что выбора тоже нет. Зато я вспомнила, что моя двоюродная сестра Эстефания, которая училась во Франции, дала мне рецепт жареного цыпленка а-ля Вильруа, и я подумала: дай-ка посмотрю, как получится.
— А-ля что? Как это делается, Хосе?
— Очень просто, потому и приготовила. Разделала курицу, выдавила на нее один кислый апельсин с двумя дольками чеснока, оставила мариноваться. Да, курица должна быть большой. Потом поджарила до золотистой корочки в половине фунта сливочного масла с двумя луковицами, порезанными кружочками. В рецепте сказано: одна луковица, но я положила две и вспомнила анекдот про поросят, которые собираются в ресторан, — знаете его, да? Поджарила, значит, до золотистой корочки, добавила чашку сухого вина, посолила, поперчила, оставила остывать. Когда курица остыла, отделила кости. Тут начинается самое главное — ты же знаешь, что французы все готовят под соусом, так? В него входят сливочное масло, молоко, соль, перец и мука, все перемешивается, ставится на огонь, и получается густая, жирная масса, но в ней не должно быть ни единого комочка, обрати внимание. Туда также добавляется сухое вино и лимонный сок. Половина этой массы выкладывается в глубокое блюдо, а второй половиной обмазывается курица и выдерживается, пока этот слой не подсохнет. После чего кусочки курицы вываливаются в сухарях, и готово: я только что поджарила их в растопленном жире. Рассчитано на шесть голодных французов, но с такими обжорами, как вы двое, боюсь, мне самой ничего не останется.
Аромат обещал неземное блаженство. Стоило Конде отведать соуса, жизнь сразу показалась ему вполне сносной; он ощутил на языке необычный, дразнящий вкус, и это породило в нем иллюзию, будто что-то внутри вдруг начало обновляться.
— В котором часу ребята заедут за нами? — спросил он Тощего, принимаясь за вторую порцию курицы, уже с гарниром из отварного риса, двух размятых зеленых бананов и весеннего салата «Радуга», куда вошли листья латука, помидоры и морковь, приправленные майонезом домашнего приготовления.
— Не знаю, где-нибудь в начале восьмого. Наверное, скоро нагрянут.
— Сейчас бы белого вина, — мечтательно сказала Хосефина и на минуту отложила вилку и нож. — Послушай, Кондесито, ты для меня как сын, сам знаешь, поэтому вот что скажу тебе: я знала про Карину, знала, что она замужем и все такое. Я сразу все про нее разузнала здесь, в районе, но подумала, что не имею права вмешиваться. Наверное, мне следовало сказать тебе.
Конде покончил с едой и налил себе воды.
— Я рад, что ты не сказала мне, Хосе. Хочешь правду? Хотя все так закончилось, стоило испытать это разочарование ради тех трех дней, проведенных с ней.
— Ну и ладно, — сказала женщина и снова взяла в руки нож и вилку. — А курица не так уж и плоха получилась, правда?
Знакомая панорама стадиона пробуждала воспоминания. Цветовой контраст зеленого травяного покрытия, блестевшего под голубым сиянием прожекторов, и коричневатой бермудской травки, подстриженной перед началом матча, является исключительным достоянием бейсбольных полей. Сегодня Андресу удалось раздобыть билеты в ложу, и теперь он первым вышагивал по переходу, разыскивая ее. Следом за ним Кролик расчищал дорогу для инвалидной коляски. Ее катил Конде с ловкостью, приобретенной за последние десять лет. «Посторонитесь, кабальерос», — повторял Кролик, а сам все посматривал на питчера гаванской команды, разминающегося перед игрой рядом со скамейкой игроков с левого края. На электронном табло уже высветились составы команд, а напряженное гудение голосов, водопадом стекающее с трибун, давало предвкушение интересного зрелища: команды востока страны и Гаваны готовились в очередной раз сойтись в историческом споре за пальму первенства, начало которому было, вероятно, положено более четырехсот лет назад, в тот день, когда столица колонии была перенесена из Сантьяго в Гавану.
По протекции одного из пациентов Андреса, сотрудника INDER,[35] им досталась такая ложа, что лучше и не пожелаешь: прямо на краю игровой площадки, между хоум-базой и пятачком третьей базы. Конде сидел рядом с Тощим и обводил взглядом зелено-коричневое поле, переполненные трибуны, игроков двух команд в бело-голубой и черно-красной форме. Он вспомнил, как Андрес когда-то хотел посвятить свою судьбу этим символическим пространствам, в которых перемещение одного небольшого мяча было сравнимо с течением самой жизни, непредсказуемым, но необходимым для продолжения игры. Ему всегда нравилось необъятное одиночество центрального аутфилда, азартное чувство ответственности за то, чтобы ощутить в своей перчатке твердость шара, радостное удивление перед собственной способностью инстинктивно бросаться именно в ту сторону и как раз в то мгновение, куда и когда отскакивал от биты белый мяч, едва начав свой капризный полет. Все эти запахи, цвета, ощущения и умения означали для Конде историческую принадлежность к месту и времени, которую можно легко воссоздать: для этого достаточно видеть и вдыхать с наслаждением неповторимый воздух, насквозь пропитавший его жизненный опыт, его мировосприятие, и не менее близкий ему, чем арены петушиных боев. Земля, пот, слюна, кожа, дерево, сладкий зеленый запах растоптанной травы и вкус крови во рту представляли для него ощущения, пережитые и прочно усвоенные памятью и органами чувств. Конде облегченно вздохнул: хоть что-то принадлежало ему, грубоватое и любимое.
— Подумать только, что я мог бы сейчас находиться там, а? — сказал Андрес, чьей игре не раз аплодировали три его друга на стадионах Гаваны. Было время, он считался лучшим игроком школы, и участие в игре на этом огромном поле превратилось для Андреса из недосягаемого удела избранных в реальную мечту, пока однажды он не убедился, что его возможности не позволяют достичь поставленной цели.
— Давненько я сюда не захаживал, — заметил Тощий и потер ладонями подлокотники своей инвалидной коляски.
— Андрес, — сказал Кролик, — если бы ты заново родился, кем бы стал?
Андрес улыбнулся. Когда он смеялся, его лицо бороздили преждевременные морщины.
— Думаю, что пелотеро.
— А ты, Карлос?
Тощий посмотрел на Кролика, потом на Конде.
— Не знаю. Ты-то — понятно, историком, а я — не знаю… Музыкантом, наверное, только где-нибудь в кабаре, где исполняют мамбо и все такое.
— А ты, Конде, стал бы опять полицейским?
Конде обвел взглядом трех своих друзей. В этот вечер они были счастливы, как все тридцать тысяч расположившихся на трибунах болельщиков, засвистевших при появлении на поле арбитров.
— Я бы не стал ни полицейским, ни пелотеро, ни историком, ни писателем, а подался бы в бейсбольные судьи, — сказал Конде и вдруг вскочил на ноги и заорал благим матом в сторону поля: — Судью на мыло!
Лунное сияние преломлялось через оконные стекла и рисовало на постели причудливые формы, которые неестественно преображались, если смотреть на них под другим углом. То были фигуры одиночества. Подушка походила на свернувшуюся клубком и ставшую почти круглой собаку с разрезанной шеей. Сползшая на пол простыня напоминала фату, сброшенную рукой несчастной невесты. Конде включил свет, и колдовство исчезло: простыня потеряла свой трагический смысл, подушка снова стала обычной, пошлой, безутешной подушкой. В аквариуме бойцовская рыба Руфино очнулась от ночного оцепенения и шевельнула голубыми плавниками, будто расправляя крылья перед полетом; только лететь ей было некуда, разве что по нескончаемому кругу вдоль стеклянных стенок его тюрьмы.