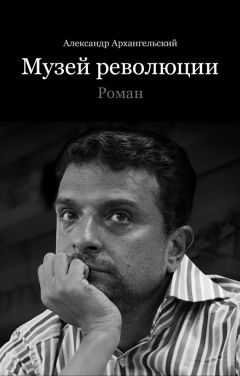Ройтман завис, как компьютер при перезагрузке.
— А он что, накрылся?
— Ну да. И телефон.
Ройтман развис.
— Аааа, так это у тебя накрылся. А у меня автономная связь, через спутник. И мы сейчас ей будем пользоваться. Вась, соедини с Плехановым.
Помощник подал толстую, напоминающую кусок хозяйственного мыла, трубку. Новым, непривычным голосом (не расслабленным, как в кабинете, не бодрячковым, как на подиуме, не сиплым, как за игровым столом, а металлически заточенным) Ройтман приказал далекому Плеханову немедленно — не-медлен-но — поднять архивы ЗАГСа в Энгельсе (и что с того, что полвосьмого), систематизировать и доложить — о родителях, о дедушках и бабушках… в общем, никого не пропускать.
Жду вечером доклада.
Отбой.
Павел ощутил прилив надежды — значит, связь по спутнику работает, можно будет попросить об одолжении… но только не сейчас, не сразу… а потом не будет поздно? Трепет Ройтмана его не задевал, он не понимал, что тут страшного-ужасного, ну еврей, ну не еврей, какая разница; но приходится учитывать душевные страдания обладателя космического телефона.
— Так, это сделали, то упредили. Могутин, Ярослав, ты подними америкосов, пусть переберут свои пробирки, скажи, что у заказчика есть подозрения… и ты мне тоже будешь говорить про время?! Чек с четырьмя нулями, и Америка меняет часовые пояса… ступай.
Пока Ройтман отдавал распоряжения, он был энергичен, доволен сам собой и миром, даже весело ругался на Америку. А завершив дела, он сразу же обвис, впал в раздраженно-растерянное состояние.
— А нам с тобой, историк, чем заняться? Нервно как-то… и я с тобой еще хотел поговорить… но лучше бы не здесь… а на улице не погуляешь… О! Есть идея. Ты в шахте был когда-нибудь? Отлично. Поехали на меднорудную… там нас точно никто не услышит. Как раз вернемся, будут результаты. Будут, будут, никуда не денутся.
— Михаил… Миша, вы в окно сегодня выглядывали? Куда мы поедем? На чем?!
Ройтман осклабился: обижаешь.
6
Дворники на ветровом стекле отмахивались от снега, как от тучи налетевших комаров. На секунду стекло расчищалось, появлялся гусеничный трактор с черной чадящей трубой, но снег опять наваливался грудью, закрывал им обзор: не пущууу! Начальник охраны стремался, не хватало увязнуть в буране. Ройтман начинал разговор, сам же его обрывал; он хотел оторваться от мыслей, как гонщик от машин преследования, но ничего не получалось. Его выбили из колеи, вынули из гипса, развинтили; он боялся до конца понять, что же сегодня случилось. Потому что если поймешь… но не надо.
Через час они остановились, охранники нырнули в белое клубящееся марево, на минуту растворились в нем и тут же обнаружились у дверцы, с натянутым плотным навесом. Ройтман спрыгнул под брезент; Павел поспешил за ним. Оказалось, что машина вплотную прижата к распахнутым дверям заводоуправления, из-под растянутой армейской плащ-палатки они вынырнули сразу в холл; охранники, водитель, тракторист — за ними.
Ничего себе — доехали практически вслепую.
Насмерть перепуганные тётьки, которых внезапный буран оставил на вторую смену, повели в директорскую, переодеваться. Такие люди, и от так, и без звонка… Пышной секретарши в комнате отдыха не было, и откуда ей сегодня взяться. Зато над шершавым диваном в цветочек раскинулась шикарная картина, с голой сисястой девицей. Девица только что помылась, высушила золотые волосы, и полулежит, ожидая хороших мужчин. Узнаваемая зековская живопись, такие дружелюбные блондинки висят обычно у начальников колоний.
Но вот они уже в комбинезонах и резиновых коротких сапогах, на головах неудобные каски с круглыми сверкающими фонарями, к поясу приторочена стальная колбочка, как маленький термос в чехле; что это такое, Павел разобраться не успел, он не прислушивался к инструктажу, который проводил усатый мастер — без раболепства и без рабочего презрения, с легкой незлобной усмешкой. Дескать хотите, имеете право, деньги все равно не наши.
Открытый лифт перестает дрожать, собирается с духом и валится вниз; сердце прыгает в живот, и сразу же отскакивает в горло. Темнота внезапно обрывается — и ровно перед ними проявляется тускло освещенный лаз. Они шагают в этот лаз, как в самодельную пещеру, вырытую в детстве на карьере. Туго капает вода, и все звуки отдаются далеко и гулко. Говорить Саларьеву не хочется, Ройтман тоже сумрачно молчит.
Склонившись в три погибели, как голливудские спецназовцы, они бегут сквозь лаз на полусогнутых, выныривают в темное и гулкое пространство, где слишком холодно и слишком страшно, резко заворачивают за угол — и попадают на перрон, напоминающий заброшенную станцию метро: отделанная плитками стена, комическая надпись «Пассажирский вокзал», в прожекторах посверкивают рельсы.
— Что, подождем электричку? — ехидно спрашивает Павел, обращаясь к наглому начальнику охраны.
— Перерыв в расписании, — зло отвечает начальник. — Сегодня придется пешком.
И первым спрыгивает вниз, на рельсы.
— А ты это куда? Я что, тебе приказ давал?
— Михаил Ханаанович, зона повышенной опасности, инструкция…
— Я тебе инструкция. Понятно?
— Нет, Михаил Ханаанович. Не понятно. А если обвал? А взрыв? А повернете не туда? Можете уволить, но я вас одного не пропущу. Права не имею.
— А я не один. Я с историком.
— Михаил Ханаанович…
Голос у охранника становится суровым и просящим; так директор школы умоляюще приказывает хулигану: пока комиссия, вести себя прилично.
Ройтман проявляет божескую милость.
— Ладно, черт с тобой. Одного поставишь здесь, на точке входа, другой спускается к дробильной, ты отстаешь на двести метров.
— Но…
— На двести метров, я сказал. Нам с историком надо будет кое-что перетереть.
Ройтман спрыгнул сам, командно махнул Саларьеву и шатко побежал по неудобным шпалам. Павел семенил за ним; начохраны перескакивал через препятствия бульдожьими прыжками. Один из охранников вернулся к лифту, другой остался сторожить у входа.
На перроне было тихо, а в тоннеле в спину им ударил тухловатый ветер, он звенел в ушах и залезал под воротник комбинезона. Но ветер тут же засосало в черноту, он просвистел, как нарезная пуля, по спирали, и следа от него не осталось.
Они поспешно шагали вдоль рельсов, ощутимо углубляясь вниз. Было тихо и сухо; вдруг сверху полились потоки грязи, под ногами хлюпнула вода; Павел испугался, что промочит ноги, но потоки вскоре прекратились, и воды больше не было. Через несколько минут тоннель опять пробило сильным тухлым ветром, как будто бы они попали внутрь насоса и невидимая сила до конца вдавила поршень. И снова все опасно стихло.
Ройтман замер, оглянулся.
Светильник на его пчелино-желтой каске издевательски бил по глазам, Павел по-бабьи прикрылся ладонью.
— Поспеваешь?
— С трудом.
— Скоро будет незаметный заворот, там запасная полоса на случай взрыва. Тихо свернешь, только свет не включай, ты меня понял? Петровича пропустим, и пока он побежит нас догонять, поговорим.
Ройтман командовал, как мальчик-вожак на войнушке. Первый взвод за мной, овчарка в засаде, три танкиста занимают боевую.
Скорее ощутив, чем углядев отстойник, Павел нырнул в черноту, вслепую сделал десяток шагов, налево, еще раз налево. Остановился, огляделся: мамочка родная, теперь понятно, что такое тьма. Это не когда темно и жутко, а когда не может быть света: он не предусмотрен штатным расписанием.
Дальним отголоском прозвучали бодрые шаги охранника. И опять беспримесная тишина. Из ее звериного нутра послышалось — придавленное, гулкое:
— Историк!
Павел отвечал свистящим шепотом, который отражался от невидимых стен, обрастал подголосками:
— Тут я, Миша.
И мелко вздрогнул: плеча коснулись пальцы. Как же неуютно быть слепым.
— Вот он ты. Что, страшно?
— Страшно. Как в аду. Пусто, безнадежно. Как будто Бога нет.
— А что, по-твоему, он есть?
— Да. Есть.
— Ты и в церковь, может, ходишь?
— В церковь не хожу. Говоря на вашем языке — обхожусь без посредников.
— А как же без посредников? Без них нельзя. Это я тебе точно говорю. Я знаю.
Голос в беспросветной темноте начинает казаться цветным. В эту самую минуту сипловатый серый голос Ройтмана стал как будто темно-красным, напряженным.
— Хорошо тебе, если веришь. Ты вот с Богом живешь, а я один… Так чего я тебя позвал… во-первых, надо с кем-то говорить, не с Петровичем же, в самом деле… ты не представляешь, тебе просто воображения не хватит, что будет, если в Штатах ничего не перепутали. Это же значит, что я — не еврей. Ты понимаешь, историк? Я — и не еврей.
— Ну, а что тут такого. Я тоже не еврей. И ничего.
— Тебе и не надо. Ты другую жизнь живешь. А я — на этом всё построил. Я в твоей говнорашке — чужой. И у немчуры — чужой. И вы мне все — чужие. А свои мне только ум и хватка. У нас же корни все растут из головы. Им что теперь, расти обратно в землю? Мама, мама, что я буду делать, когда придут морозы-холода?