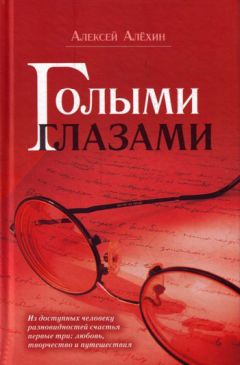Рынок чудес закрывается рано, да и темнеет на глазах. И в этот зыбкий час поднимается занавес, обнажая частную жизнь поднебесного города. Он наконец-то занимается самим собой.
Женщина стирает в тазу прямо на тротуаре, выплескивая мыльную воду под ноги прохожим.
Плотный бритоголовый китаец, сидя на табурете, чистит ножом извивающуюся окровавленную рыбу.
Уличный цирюльник складывает свой стул и простыню и собирает инструменты в корзинку.
А продавец блинов в третий раз за день выкатывает застекленную тележку-кухоньку с котлом кипящего масла и раскаленной плитой. И рикши с полосатыми тентами, устав сзывать седоков, причаливают к тротуару перекусить.
Компания мастеровых, устроившись на чурбаках вокруг уставленного плошками низкого столика, закусывает перед своей мастерской чем-то горячим, жидким, коричневым. Толпа обтекает их, они болтают о своих делах и чувствуют себя на диво уютно. Если хочешь узнать национальный характер, посмотри на людей за едой.
Глазастая ночная жизнь растекается вдоль улиц.
На ступеньках харчевен и ресторанчиков пускают искры приплюснутые медные самовары. По ту сторону распахнутых створок за столиками едят, макая палочками ломтики баранины в приправленный специями кипяток, и пьют пиво из высоких бутылок.
Трое в дальнем углу, по виду государственные служащие (один с ужимками обезьяньего царя, но в жилетке и при галстуке; другой – узколицый, с воткнутой в ядовитую улыбку сигареткой; и третий – еле шевелящий толстыми, как пельмени, веками), играют в какую-то долгую карточную игру.
Толпы позванивающих велосипедов катят мимо расцвеченных огоньками витрин, уличных столов, заполненных едоками, и маленьких ресторанов с потрепанными шелковыми фонарями над дверьми.
Старик с костлявым лицом недвижно сидит, накинув на худые плечи пальто, в вынесенном за ворота плетеном кресле и молча разглядывает набегающий из мрака, посверкивающий ободами поток.
Под уличным фонарем молодая пара беззаботно стукает в бадминтон через головы идущих.
По длинному коридору улицы несет пестрым мусором смех, звон стекла, запах мяса и горелого масла, обрывки кружащей скачками мелодии «пекинской оперы».
Но все это ненадолго.
Уж веломастер, притулившийся у стены, доклеивает при свете переносной лампы последнюю за вечер камеру, и клиент нетерпеливо покуривает в ожидании.
Все меньше покупателей у освещенных изнутри лотков с овощами, фруктами, дешевой водкой, галантереей и опять с овощами.
Расползаются в темноту безлюдные узкие переулки с кучками угля, прикрытого рогожками.
Тускло блестят, сгрудившись в своих кошарах, оставленные хозяевами велосипеды.
Откуда-то тянет сладким запахом не то курящихся благовоний, не то тлеющей свалки.
На опустевших перекрестках еще маячат ночные продавцы сигарет с яркими деревянными витринками, похожими на мольберты.
Держась за руки, катят посередине асфальта на тугих шинах запоздалые велосипедные парочки.
И какой-то мужчина с фонариком в руке роется в мусорных баках.
У этой великой столицы, гордящейся своим прошлым, есть мечта. Ее выдают распластавшиеся и рвущиеся ввысь в пыльном ночном тумане прозрачные, дымчатые, бетонные дворцы гостиниц. Пустые и темные до самого верха.
Лишь на уровне тротуара они сверкают массивными парадными входами и золотыми огнями мраморных холлов. В полированном камне со всех сторон отражаются многоярусные люстры, скучающие за стойками служащие и молодые привратники в алых камзолах, дежурящие у стеклянных дверей. И дремлет где-то на этажах прислуга, дни напролет прибирающая и чистящая нетронутые номера.
Целый город в ожидании гостей, которые могут и не приехать…
Поднебесная, 198-й деньо происхождении времени, весны и воздушных змеев
Ты можешь быть уверена, мой друг, что часы изобрели не в Китае. В этом инструменте тут нет надобности.
Зато китайцы придумали машину времени. Хотя я тщетно искал ее в музее между античной повозкой для залпового огня пороховыми стрелами и колесным кораблем, кажется, цзиньской эпохи, приводившимся в действие живою силой (добавь гребное колесо к перечню китайских приоритетов), она несомненно была построена. Слаженная из дерева и бронзы, расписанная золотом, инкрустированная нефритом с искусной резьбой в виде летящих драконов и фениксов. Почти уверен, что знаю имя изобретателя: все тот же Конфуций.
Ныне он опять превознесен. Разрушенные было храмы восстановлены. Труды «учителя из Цюйфу» распространяют специально созданные фонды, изучают на созываемых тут и там конференциях. Кучу денег тратят на конфуцианские фестивали, куда старательно заманивают иностранцев дармовой кормежкой и показухой. Ожидается, что именно он выведет страну в будущее.
Но это ошибка. Построенная им модель годится для движения во времени не больше, чем мраморный пароход в Летнем дворце – для путешествий в пространстве. Да такая и не нужна: по времени тут можно перемещаться пешком. Достаточно свернуть вбок с проспекта, чтобы позади многоэтажных декораций оказаться в средневековой деревне с ручейками нечистот либо в тесных коридорах феодального города, да еще упереться в маленький древний храм, при рассмотрении, правда, оказывающийся ресторанчиком.
Машина Конфуция остановила время. Он объявил идеалом прошлое и навсегда посадил страну на этот бронзовый якорь.
Потомки буквально восприняли указанный ориентир и приложили массу сил, чтобы не слишком от него удаляться. Едва очередная эпоха уходила со сцены, ее принимались мумифицировать и утрамбовывать в уже слежавшийся археологический пласт, дабы снова начать с прежней точки отсчета. Работа эта зашла столь далеко, что чуть не вся история Китая оказалась в объемистом первом томе, к тому же еще не до конца дописанном.
Иногда мне кажется, что в сознании своем многие китайцы живут в условном мире «пекинской оперы» с ее полосатолицыми злодеями и комиками, помеченными на переносице белым пятном. Ты слышала, конечно, про этот симбиоз музыки, пения, акробатики, драмы и пышных костюмов – потрясающее зрелище! Сюжеты таких опер, восходящие к деяниям немыслимой древности, воспринимаются тут не аллегорически, а как древние греки, верно, смотрели трагедии Еврипида: по свежим следам. И мой китайский приятель, поминутно поправляя на носу очки, с жаром повествует мне обо всех этих кровавых убийствах, подлых предательствах и благородных поступках, точно они случились вчера и он узнал о них из вечерних новостей по телевизору.
Искусственно замкнутый в пространстве, Китай все же нуждался в соседях, хотя бы для сравнения. И он отыскал их, как и все остальное, в своей собственной истории. Даже моды заимствовали оттуда, как русские у французов в пушкинские времена. В книге про одного старинного каллиграфа я прочел, что в артистическом кругу принято было в одежде и манерах казаться старомодным: за образец брали IV век. А шел-то XI. И простое ли совпадение, что в китайском языке у глаголов нет времен?
Культ старины возведен тут в символ веры. Принцип «чем древней, тем лучше», преобладающий в нашей части света у археологов и коллекционеров, безраздельно господствует в умах. Это длится более двух тысячелетий, и античный балласт, придающий цивилизации устойчивость на ходу, в Китае, я уже говорил, обратился в якорь.
Поняв все это, я иными глазами взглянул на историю западного мира.
Мне всегда было чертовски жаль Древнего Египта, Крита, Афин и домонгольского Киева. Я страдал, обнаружив, что пол-Европы лежит на мраморных руинах Рима с его водопроводами, арочными мостами, театрами – великого организма, поглощенного варварами, не сумевшими даже его целиком переварить.
Еще страшнее подумать, что и дивная европейская цивилизация в какой-то момент устанет эволюционировать и уступит место иной, исчезнет под ней со всем своим пышным реквизитом.
Но, вероятно, даже сохранение той или иной культуры не может быть самоцелью. Рождение нового неизбежно связано со смертью старого, как вдох и выдох. И не бывает одного без другого.
Удивительно, что в этом остановившемся мире еще происходит смена времен года. Но это так.
Омерзительно скучная зима слегла наконец от сухого кашля. Тонкие тени ветвей сделались резче, обозначив приближение весны. И обсаженный тополями бывший загородный тракт – Дорога Белокаменного Моста, откуда к тебе приходят эти письма, – по утрам стал наполняться светом. А прямые одноэтажные улочки в Старом городе похорошели, залитые холодным и прозрачным, как вода, воздухом.
В день, когда расцвели яблони, впервые повалил так и не выпавший зимою мокрый снег. Повиснув на черных зонтах деревьев, он неожиданно напомнил Прибалтику. Здешние крыши и без того графичны, а выбеленные снегом волны черных черепиц обратили весь город в гравюру из музея. Или в стадо каменных зебр, сбившихся в загоны кварталов.