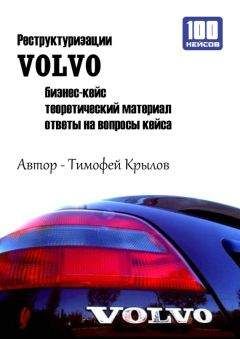Стиль Платонова и Толстой
– Платонова не люблю и читать не могу. Как не могу пообедать только икрой, или только медом, или только солью. Дегтярная вязкость и густота языка – подряд, в едином и очень условном ключе, на пространствах длинной прозы, вызывает рефлекторное отторжение. То, что хорошо как приправа и нечастый очень сильный элемент, в неограниченных дозах начинает с раздражением восприниматься искусственным, вычурным, специально придуманным. Так нельзя написать вещь, где каждое предложение, для усиления общего эффекта, кончалось бы восклицательным знаком. Пусть объяснят мне смысл конструкции «Он произвел ему ручной удар в грудь» вместо «ударил» или «но сам он не сделал себе никакой защиты» (от удара) вместо «никак не защитился» – и тогда я, туповатый недоумок, произведу благодарность просветившему мое понимание.
– Строго говоря, ничего принципиально своего Платонов в языке не изобрел. Он взял и возвел в абсолют и принцип своего письма то, что было у Толстого; но у Толстого, который плевал на прописные догмы грамматики, исповедуя точный смысл, оно встречалось изредка и всегда было наилучшей формой выражения, краткой, точной, нужной. А нестандартность, аграмматизм лексических и падежных сочетаний – та же. «На лице его промелькнула та же улыбка глаз», – это Толстой. «Улыбка стыдливости перед своими чувствами», – и это Толстой. «Она не решилась сделать вопрос», – и это он. «Переноситься мыслью и чувством в другое существо было действие, чуждое ему». «…и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость». «Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу». Вот вам и весь Платонов с его «сытостью организма» и «для силы своего ума».
– Так ведь он таким образом и воплощал всю неестественность, беспросветность, уродливую заемную фразеологию и абсурд происходящего! Этот мир искажен во всем, в том числе и на уровне языка! И через язык также дается его искаженность!
– Понимаю. Но читать не хочется. Неинтересно. Здесь степень деформации языка выше степени трансформации материала и сюжета: одеяло перетягивается, мера нарушена, и главным остается общее впечатление, а для полного его получения достаточно и пары десятков страниц, дальше – просто излишне, все уже ясно и постигнуто.
Красивое вранье Паустовского
– Долго не мог понять: Паустовский – так хорошо пишет, и чем он мне не нравится?.. Пока не перечитал «Снег». Боже мой: война, эвакуация, карточки, ребенка кормить нечем, вечно хочется есть, холодно, дров нет, сортир во дворе – тоже зимой кайф для горожанки, известия с фронтов убийственные: жить, выжить, ребенок, и – о господи: рояль, витые свечи, заснеженный сад, красивый офицер, отдыхавший до войны в Крыму – да кто в том Крыму тогда отдыхал?! бунинская, понимаешь, элегия!.. тут помыться бы теплой водой, мыла бы бельишко постирать да починить, ребенок заболеет – чем, как лечить… какие свечи, какой рояль!
Или, из знаменитых же – «Ручьи, где плещется форель». Смотрит зимой часовой вслед саням: «Ах, сейчас бы глоток горячего вина!» очень изячно. Об чем думает такой часовой, притоптывая по снегу? сколько там еще до смены! погреться бы! пожрать! выпить! эх, сейчас бы вот с такой бабой! куда она поехала, к кому, интересно? развлекаются, сволочи! Или – лошадей в гору гонит вскачь, – надоели ему эти лошади, что ли? так он их еще с бега посреди дороги решил попоить ледяной водой из горного ручья – пусть обопьются, родимые, авось сдохнут! зато рыба-форель в ручье хвостиком взмахнула – красиво, понимаешь!
Я бы этот стиль назвал романтизмом, а вот эпитета к этому романтизму никак не подберу: не шоколадный, не цветочный, не рождественский, а не знаю даже какой…
– Писатели любили хвалить его «Голубую чашку»: «Ах, какой замечательный, лучший рассказ» – «А жизнь, товарищи, была совсем хорошая» – последняя фраза; тридцать восьмой год на дворе; привет всем, дивный рассказ.
А есть у него рассказ славный, маловспоминаемый – «Патроны». Наскакали, значит, белые на село, всех в сарай под замок, там плачут, расправы ждут, – вдруг стрельба кругом, удрали белые, мальчик спрятавшийся подходит к сараю: «Ну, как вы там? сейчас открою». – «Погоди, сынок, пусть наши откроют». – «Какие наши?» – «Товарищи, красные». – «Да нет никаких красных…» – «Как же? а стрельба!» – «Да это я кругом деревни в кустах костров нажег и патроны в них побросал, рваться начали, вот белые и сбежали. Так что – выходите… обождите, замок собью…» Нехитро, но смысл хорош; часто вспоминаю; не будет тебе никаких торжественных освободителей – давай своей собственной рукой, попрозаичней.
– …и вышла в начале шестидесятых книжка, и все ничего. А тут Михаил Лившиц, известный борец за реализм и нравственность, ее походя полил. Неприятно. Но тут полемика как раз разразилась между Лившицем и Эренбургом, и Эренбург, громя и поливая Лившица, и о Битове упомянул: и здесь, мол, неправ глупый ретроград Лившиц, прекрасный молодой писатель Битов, и книжка замечательная. Круги пошли, критики подключились, большая пря, и в эту прю Битова и втащило, попал на язык: которые, значит, за Лившица, те поливают, а которые за Эренбурга, превозносят. И оказался он как бы участком поля битвы, которую прогрессивная эренбурговская группа выиграла. Короче, сидит дома, никого не трогает, звонят: Ленсовпис, просим зайти. Заходит: рады познакомиться, знаем, что ж ничего не несете, давайте можем заключить договор. И вот слегка обалделый Битов выходит из Совписа с договором, ни сном ни духом о нем ранее не ведая. Так вышла книга «Большой шар», а Битов оказался в большой литературе…
– Каким редким даром, каким удивительным талантом надо обладать, чтобы сделать непереносимо скучное чтиво из биографий таких героев и авантюристов, как Гарибальди и Лунин! (Есть выражение «из дерьма конфету сделать», так здесь как раз наоборот.)
– Так вот потому он больше учит других, как надо писать.
– В бане паразит один клеветал; хотел я его шайкой ляпнуть, так в пару не разглядеть было, кто.
Когда-то (рассказывал) Ленинградскую писательскую организацию возглавлял стихотворец Александр Прокофьев, по-простому в обиходе – Прокоп. Круто деловой. Лауреат, черная машина, брюхо типа дирижабля «Граф Цеппелин» – эпоха, табель о чинах.
Вот подкатывает его лимузин к Союзу, а из дверей приятный такой молодой человек выходит. Узнает его через стекло, здоровается умильно и дверцу раскрывает заодно: уважение оказывает старшему, все равно рядом, вежливый такой.
И еще как-то раз также кстати выходит он. И еще. Мол, какие интересные совпадения. И уходит ненавязчиво своей дорогой.
И уже в коридорах Союза встречая, стал с Прокопом здороваться – узнавался. Разговора удостоился: приятнейший молодой человек, начинающий, бедный, и какой-то ненавязчиво приятно-полезный. Книжечки на автограф, как водится. И, короче, пригласил его Прокоп в литсекретари.
Что такое денщик босса? это маршальский жезл, сунутый тебе в ранец под груду хозяйского груза и грязного белья: топай, парень! дотащишь мое – и свое получишь. Прокопу-то брюхо мешало до шнурков на ботинках дотягиваться, так Саня Чепуров вообще незаменимый мальчик был.
Прокоп, скажем, возвращается из Москвы на «Стреле», а Саня его уже встречает с цветами и женой (прокоповской): пожалте встречу. А Прокоп выплывает из вагона под руку с бабой. А Саня, не усекя, ему букет и ножкой шаркает, на супругу кивает. Прокоп почернел, ткнул ему обратно букет и потопал один. Мило услужил. Еле отмолился.
Вот так Саня и двинулся в начальники Ленинградского СП, каковое и возглавлял много лет весь «застойный период».
Новаторы и консерваторы в литературе
– Та самая энергия, которая заставляет человека стремиться изменять искусство, заставляет его стремиться изменять и жизнь. Спорить о новаторах и консерваторах глупо – это диалектическая пара. Примечательно, что сейчас это размежевание в искусстве и политике удивительно совпадает. Традиционалисты-реалисты-деревенщики неизбежно оказались консерваторами и реакционерами: и одно и другое обусловлено их сущностью, их как бы недостатки со всей яркостью есть продолжение их как бы достоинств.
– Забавнее, что те, кто раньше умилялся: «Ах, Распутин… О, Белов…» – теперь сокрушаются: «Ай-я-яй, Распутин… ой-е-ей, Белов…» Хотя ни как писатели, ни как личности они совершенно не изменились. Никогда там не было большой литературы. Тот самый недостаток внутреннего потенциала, не дающий выйти за рамки общепонятной литературной традиции, не дает выйти и за рамки горестной традиции политической.
– Но эти ребята безусловно вызывают уважение. Честностью, стойкостью и последовательностью. Раньше их бесспорная заслуга была в том, что они открыто писали правду, не боясь неприятностей – правду, которую очень многие знали и написать в принципе могли, но избегали портить себе жизнь. Однако минуло дикое время, когда акт гражданского мужества провозглашался актом художественного свершения: сказать правду еще не есть литературное достоинство, этого мало. А теперь многие – без риска! – пошли в говорении правды и анализах гораздо дальше, и стоики-деревенщики в неизменности своей позиции из авангарда оказались в арьергарде…