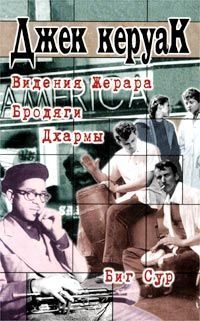Но я этому не поверил. Я вспомнил, как Хань Шан говорил о тумане на Холодной Горе — как он никогда не уходил; я начал ценить дерзость Хань Шана. Хэппи и Уолли вышли со мною наружу, и мы повозились вместе, устанавливая шест для анемометра и делая другую работу, затем Хэппи зашел внутрь и стал готовить потрескивавший ужин на печке — жарил колбасный фарш с яйцами. Мы выпили много кофе и хорошо, плотно поели. Уолли распаковал рацию на батареях и вызвал плоты на озере Росс. Потом они свернулись в своих спальниках на полу, а я лег в своем на сырую койку.
Наутро везде по-прежнему серый туман и ветер. Мужики приготовили животных и перед тем, как уезжать, повернулись ко мне и спросили:
— Ну, тебе нравится пик Опустошения? — А Хэппи добавил:
— Не забывай, что я сказал тебе про ответы на свои вопросы. А если примерещится, что смотрят в окно, закрой глаза.
Когда они скрылись в дымке среди искореженных деревьев на верхушках скал, окна взвыли, и очень скоро я вообще перестал различать их фигуры и остался один на пике Опустошения на целую вечность, как я это себе представлял: я был уверен, что все равно никогда не выберусь отсюда живым. Я пытался разглядеть горы, но лишь случайные провалы в летящем тумане являли мне смутные дальние силуэты. Я сдался, зашел внутрь и весь день вычищал из хижины грязь.
Ночью я поверх штормовки и теплой одежды накинул пончо и вышел помедитировать на этой туманной верхушке мира. Здесь действительно было Великое Облако Истины, Дхармамега, конечная цель. Свою первую звезду я начал видеть около десяти часов, затем немного белой дымки расступилось, и мне показалось, что я вижу горы — гигантские, черные, скользкие тени на другой стороне пропасти, непроглядно черные и белые от снега на вершинах — вдруг так близко, что я аж подпрыгнул. В одиннадцать я различил вечернюю звезду над Канадой на севере, и мне почудилось, что я заметил за туманом оранжевый поясок заката, но это вылетело у меня из головы, стоило услышать, как свора крыс скребется в дверцу моего погреба. На чердаке маленькие алмазные мышки носились на черных лапках среди рассыпанных круп, рисинок и разного барахла, брошенного там целым поколением неудачников Опустошения. Уф, оу, — думал я, — понравится ли мне это когда-нибудь? А если нет, то как я отсюда выберусь? Единственное, что мне оставалось — это залечь до утра спать, укрывшись с головой.
Посреди ночи, полупроснувшись, я, очевидно, приоткрыл глаза — и вдруг сон с меня слетел и волосы на загривке зашевелились: я увидел, что за моим окном стоит громадное черное чудовище; вгляделся — над ним висела звездочка, то была гора Хозомин за много миль отсюда, в Канаде, она склонялась мне на задний двор и заглядывала в окно. Весь туман растянуло — изумительная звездная ночь. Что за гора! У нее была та самая безошибочная форма башни ведьм, которую придал ей Джафи на своем рисунке кистью, что висел на джутовой стенке в нашей избушке среди цветов на Корте-Мадера. Гору опоясывало нечто вроде спирали дороги, вившейся вверх по скальному карнизу — выше и выше до самого верха, где вздымалась совершенная ведьмовская башня, указывая собою во всю эту бесконечность. Хозомин, Хозомин — самая скорбная гора, что я когда-либо в жизни видел, и самая прекрасная — как только я ее узнаю и увижу за нею Северное Сияние, отражающее в себе все льды Северного Полюса с другой стороны мира.
И вот наутро я проснулся, а снаружи — прелестное голубое небо с солнышком, и я вышел на свой альпийский дворик, и вот оно всё — так, как рассказывал Джафи: сотни миль чистых заснеженных скал, и девственные озера, и мачтовый лис, а ниже вместо целого мира я видел море зефирных облаков, плоское, как крыша, простирающееся во все стороны на мили и мили, заливая своими сливками все долины — то, что называют низкой облачностью; с моего 6600-футового острия все это оставалось глубоко подо мною. Я сварил кофе на печке, вышел и согрел свои промозглые косточки на жарком солнце, сидя на деревянной ступеньке хижины. Крупному лохматому кролику я сказал: «Ти-ти,» — и он спокойно насладился минуткой моего общества, тоже разглядывая море облаков. Я поджарил яичницу с беконом, в сотне ярдов ниже по тропинке выкопал мусорную яму, засек ориентиры своим панорамным пожароискателем и определил названия всех волшебных скал и расщелин — имена, что Джафи так часто пел мне: Джек-Маунтин, Ужас, Ярость, Вызов, Отчаянье, Золотой Рог, Сауэрдау, Кратерный пик, Руби, Маунт-Бейкер — больше, чем весь мир где-то в западной дали, Джекэсс-Маунтин, пик Кривой Палец, сказочные имена ручьев: Три Дурня, Коричный, Хлопотный, Молния, Вымерзающий. И все это было моим, ни единой пары человеческих глаз на целом свете не смотрело на эту неохватную циклораму материальной вселенной. На меня снизошло грандиозное ощущение ее нереальности: мысль о том, что это все — сновидение, не оставляла меня все лето, наоборот, она укреплялась и укреплялась, особенно когда я вставал на голову, чтобы улучшить кровообращение: на самой верхушке горы, подстилая джутовый мешок, и вот тогда горы выглядели пузырьками, висящими в пустоте вверх тормашками. Я на самом деле осознал, что они — вверх тормашками, и сам я — вверх тормашками! Здесь ничего не скрывало того факта, что гравитация безопасно удерживает всех нас вверх тормашками на поверхностной сфере земли в бесконечном пустом пространстве. И я вдруг понял, что я истинно один и мне больше нечего делать — надо лишь кормить себя, и отдыхать, и развлекаться, и пусть кто хоть слово на это скажет. Среди камней росли маленькие цветочки — ведь их никто не просил расти, и меня самого никто не просил расти.
Днем зефирную крышу облаков лохмотьями сдуло, и мне открылось озеро Росс — прекрасная лазурная чаша далеко внизу, с крохотными игрушечными лодчонками отдыхающих: сами-то лодки не увидеть — слишком далеко, видны лишь жалкие бороздки, что они оставляют на озерном зеркале. Можно было разглядеть и перевернутые отражения сосен в озере, направленные в бесконечность. На исходе дня я валялся в траве и передо мною разворачивалось все это великолепие, а мне наскучило и я подумал: в этом ничего нет, потому что мне наплевать. Потом я подпрыгнул и запел, и стал танцевать, и насвистывать сквозь зубы так, что разносилось по всей Горловине Молнии, и эхо это было слишком неохватным. За хижиной лежало снежное поле, которое будет снабжать меня свежей питьевой водой до самого сентября — хватит ведерка в день, пусть себе тает в доме, из него хорошо зачерпывать жестяной кружкой ледяную водицу. Я чувствовал себя счастливым как никогда — лучше, чем во все эти годы, начиная с самого детства, я чувствовал себя взвешенно, радостно и одиноко.
— Бадди-о, йиддам-диддам-ди, — пел я, расхаживая вокруг и пиная камни. Затем настал мой первый закат — он был невероятен. Горы покрылись розовым снегом, облака отдалились и украсились оборочками — как дальние древние города великолепной Земли Будды, — ветер трудился непрестанно — ш-шух, ш-шух, а иногда гулко гремел, расшатывая мое суденышко. Диск новой луны выпукло выступал и тайно смешил меня посреди бледного настила синевы между чудовищными накатами дымки, поднимавшейся от озера Росс, острые зазубрины вырисовывались из-за склонов, похожие на горы, которые я грифелем рисовал в детстве. Где-то, казалось, проходит золотой праздник радости. В дневнике я записал: «О, я счастлив!» В вершинах позднего дня я узрел надежду. Джафи был прав.
Когда тьма начала обволакивать мою гору, и вскоре снова настанет ночь, и звезды, и Ужасный Снежный Человек пойдет бродить по горе Хозомин, я развел в печке потрескивавший огонь, напек вкусных ржаных лепешек и сделал себе хорошее баранье рагу. Крепкий западный ветер бился в хижину: та была выстроена хорошо — стальные стержни уходили в бетонные заливки, ее бы не сдуло. Я был удовлетворен. Всякий раз, когда я выглядывал из окна, то видел альпийские ели на фоне снежных шапок, ослепляющую дымку или озеро внизу, все смятое и лунное, словно в игрушечной ванночке. Я составил себе букетик люпина и других горных цветов в кофейной чашке с водой. Вершина Джек-Маунтин была оторочена серебряными облаками. Иногда я вдалеке видел вспышки молний, они внезапно высвечивали невероятные горизонты. По утрам иногда бывал туман, и мой хребет — хребет Голода — совершенно заволакивало молоком.
Тютелька в тютельку утром следующего воскресенья, как и в первый раз, на рассвете мне явилось море плоских сияющих облаков в тысяче футов подо мною. Каждый раз, когда мне становилось скучно, я сворачивал себе папироску, набивая ее из банки «Принца Альберта»: на свете нет ничего лучше неторопливого глубокого кайфа самокрутки. Я расхаживал в ярком серебристом покое с розовыми горизонтами к западу, а все насекомые умолкли в честь луны. Были и такие дни — жаркие и жалкие, с целыми чумными тучами саранчи, крылатых муравьев, духота, воздуха нет, облаков нет, я вообще не понимал, как может вершина горы на Севере становиться такой духовкой. В полдень единственным звуком на целом свете был симфонический гуд миллионов насекомых, друзья мои. Но приходила ночь, а с нею — горная луна, и озеро заливал лунный свет, и я выходил наружу и сидел в траве, и медитировал, обернувшись лицом к Западу, желая, чтобы во всей этой безличной материи где-нибудь оказался какой-нибудь Личный Бог. Я выходил на свое снежное поле, выкапывал остывавшую там банку пурпурного желе и смотрел сквозь нее на белую луну. Я чувствовал, как к ней катится весь мир. Но ночам, когда я лежал в своем спальнике, из нижнего леса приходили олени и грызли остатки пищи, разложенные на жестяных тарелках во дворе: самцы с широченными рогами, оленухи и славный маленький молодняк — они походили на млекопитающих с другой планеты, такие скалы вставали в лунном свете за ними.