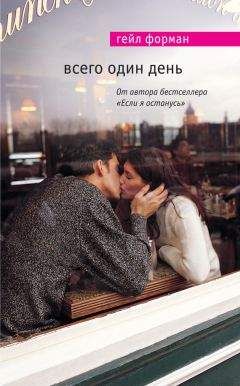Она прислушивается.
— О чем ты говоришь? Мне хватает тебя.
— Нет! Такого и быть не может! Я у вас одна, и старшенькая и младшенькая одновременно, так что тебе нужно следить, чтобы вклад принес дивиденды, потому что замены у тебя нет.
— Это смешно. Ты не вклад.
— Относишься ты ко мне как ко вкладу. Все свои ожидания вы возложили на меня. И мне приходится нести груз ответственности за всех детей, которые у вас не родились.
Мама качает головой.
— Ты не соображаешь, о чем говоришь, — тихо говорит она.
— Правда? Медицинский факультет в тринадцать лет. Бог ты мой! Какой тринадцатилетней девчонке хочется в мед?
У мамы мелькает такое выражение на лице, словно ей под дых дали. Она кладет руку на живот, как будто прикрывая место удара.
— Вот этой девчонке.
— Что? — я уже ничего не понимаю. Но потом вспоминаю, что, когда я училась в школе и мне нужна была помощь с химией или биологией, папа всегда отправлял меня к ней, хотя врач — он. Вспоминаю, как она наизусть читала требования для подготовки к меду, когда пришел каталог из колледжа. Вспоминаю ее работу — в рекламе, но в фармацевтической компании. И вспоминаю, что ей сказала бабушка на том ужасном Седере: «Ведь это ты об этом всегда мечтала».
— Ты? Ты хотела стать врачом?
Она кивает.
— Я готовилась к поступлению в медицинский колледж, когда познакомилась с твоим отцом. Он тогда был на первом курсе, но все равно находил время помогать и мне учиться. Я сдала экзамены, подала заявки в десять колледжей, но меня ни в один не взяли. Папа объяснил это тем, что у меня никакого лабораторного опыта не было. Я устроилась в «Глаксо», думала, что потом снова попытаюсь поступить, но мы с отцом поженились, я начала работать в пиаре, так прошло несколько лет, мы задумались о детях, а я не хотела, чтобы малыш появился, пока мы оба еще учимся, а потом возникли проблемы с зачатием. Когда мы перестали пытаться родить второго, я ушла с работы — папа уже зарабатывал достаточно, и мы могли себе это позволить. Я думала, что тогда-то попробую снова поступить, но поняла, что мне нравится заниматься с тобой. Я не захотела расставаться.
У меня голова кругом идет.
— Ты же всегда говорила, что вас с папой кто-то свел.
— Да. Обучающий центр на кампусе. Просто я тебе этого не рассказывала, не хотела, чтобы ты думала, что я из-за тебя от всего отказалась.
— Ты не хотела признаться, что остановилась, когда поняла, что проигрываешь, — уточняю я. Разве не именно это она сделала?
Мама хватает меня за руку.
— Нет! Эллисон, ты неправильно понимаешь фразу. Речь о благодарности. О том, что надо остановиться, когда получил уже достаточно.
Я не до конца ей верю.
— Если это так, может быть, тебе стоит и сейчас остановиться, пока выигрываешь, — пока мы окончательно не испортили отношения.
— Ты хочешь, чтобы я перестала быть тебе матерью?
Поначалу мне кажется, что вопрос риторический, но потом я ловлю ее взгляд, она смотрит на меня огромными полными страха глазами, и у меня начинает щемить сердце. Неужели она действительно могла подумать такое?
— Нет, — тихо говорю я. Потом делаю короткую паузу, собираясь с духом. Мама как-то напрягается, может быть, тоже старается крепиться. — Но я хочу, чтобы ты стала другой матерью.
Она снова плюхается на стул, я не могу понять, что она чувствует — облегчение или поражение.
— А что получу я?
У меня в голове мелькает образ: мы пьем чай, я рассказываю ей обо всем, что случилось со мной прошлым летом в Париже, о той поездке, которая мне только предстоит. Однажды это случится. Но не сейчас.
— Другую дочь, — отвечаю я.
Июль
Дома
Я купила билеты. Оплатила французский, и все равно после празднования Дня независимости, который оказался на удивление загруженным и прибыльным, у меня осталось пятьсот баксов. «Кафе Финлей» закрывается двадцать пятого июля, но если не случится катастрофы, у меня к тому времени будет достаточная сумма.
Приезжает Мелани. От родителей я узнала, что после лагеря она неделю проведет дома, а потом они сплавляются на плотах по Колорадо. Когда она вернется оттуда, уже не будет меня. А после Европы мне будет уже пора ехать в колледж. Значит ли это, что все лето пройдет так же, как и последние шесть месяцев — как будто мы с ней никогда и не были подругами? Увидев машину Мелани у их дома, я молчу. Мама тоже ничего не говорит, из чего я делаю вывод, что они со Сьюзан уже говорили о нашем разладе.
Курс французского подходит к концу. В последние дни каждый из нас должен сделать презентацию чего-то французского. Я рассказываю о макаронах — как они появились, как готовятся. Я наряжаюсь в фартук и колпак Бэбс, а закончив презентацию, угощаю всех макаронами, которые она специально для нас приготовила, а также раздаю открытки из ее ресторана.
Я подъезжаю к дому на маминой машине — я взяла ее, чтобы довезти реквизит для презентации, и вижу Мелани у ее дома. Она тоже меня замечает, мы переглядываемся, словно спрашивая — так и будем друг друга игнорировать? Словно мы и не подруги.
Но мы же дружили. По крайней мере, раньше. И я машу ей рукой. Потом выхожу на тротуар, на нейтральную территорию. Мелани тоже выходит. Подойдя поближе, она изумленно смотрит на меня. Я смотрю на свое нелепое одеяние.
— Я была на уроке французского, — объясняю я. — Макарон хочешь? — Я угощаю ее, у меня осталось несколько, и я решила отвезти их маме с папой.
— О, спасибо, — Мелани откусывает, и глаза у нее распахиваются широко-широко. Я чуть было не сказала: «Да, я знаю». Но столько месяцев прошло, и я молчу. Может, и не знаю ничего. Теперь-то.
— Значит, ты была на французском? Мы обе решили этим летом поучиться, да?
— Да, ты в Портленд ездила. На какую-то музыкальную программу?
У Мелани загораются глаза.
— Да. Было так насыщенно. Учили не только играть, но и сочинять, рассказывали о различных аспектах мира музыки. С нами работали профессионалы. Я сочинила мелодию на пробу, в следующем году покажу ее в школе, — у нее просто лицо светится. — Наверное, я в итоге пойду на теорию музыки. А ты?
Я качаю головой.
— Еще не уверена. Кажется, мне нравятся языки, — с начала нового учебного года я помимо китайского продолжу французский и пойду на очередной шекспировский курс профессора Гленни. На введение в семиотику. И африканские танцы.
Мелани смотрит на меня нерешительно.
— Значит, в Рехобот-Бич ты в этом году не едешь?
Мы ездили туда с моих пяти лет. Но теперь все меняется.
— Папу пригласили на конференцию на Гаваи, он уговорил маму ехать с ним. Наверное, ради меня постарался.
— Потому что ты в Париж собралась.
— Да. Я лечу туда.
Возникает пауза. Краем уха я слышу, как соседские детишки прыгают в струях поливалок. Мы с Мелани тоже в детстве так играли.
— Его искать.
— Мне надо знать. Вдруг что-то все же случилось. Я должна это выяснить.
Я готовлюсь к тому, что Мелани будет надо мной смеяться, глумиться. Но она молча обдумывает услышанное. А потом говорит, не ехидствуя, а по сути:
— Но даже если ты его найдешь. Даже если он не бросил тебя намеренно, он все равно не сможет быть таким человеком, каким ты его нарисовала.
Не то чтобы мне эта мысль в голову не приходила. Я осознаю, что шансов его отыскать — немного, а то, что он окажется именно таким, каким остался в моей памяти, — еще меньше. Но я все равно постоянно думаю о том, что так часто говорит мой папа — когда потеряешь что-то, надо представить то место, где видел это в последний раз. А в Париже я так много нашла — а потом снова потеряла.
— Знаю, — отвечаю я Мелани. Странно, что я не занимаю оборонительную позицию. Мне даже становится легче, потому что я уже готова поверить, что она за меня переживает. И потому, что я сама уже так не переживаю. По крайней мере, из-за этого. — Но это и неважно.
У нее распахиваются глаза. Потом она щурится, осматривает меня с ног до головы.
— Ты как-то по-другому выглядишь.
Я смеюсь.
— Нет. Я все так же выгляжу. Просто костюм такой.
— Дело не в нем, — говорит она как-то резковато. — Ты просто кажешься другой.
— О. Ну… спасибо?
Я смотрю на Мелани, и только сейчас замечаю ее саму. Она кажется такой привычной. Снова как раньше. Волосы отрастают, у нее снова свой естественный цвет. Обрезанные джинсы, приятная футболка с вышивкой. Колечка в носу нет. Татуировок тоже. Нет разноцветных прядей. Нет вызывающего наряда. Конечно же, то, что она выглядит, как тогда, не значит, что она и в остальном как тогда. И меня вдруг осеняет, что у Мелани, возможно, тоже был трудный год, как и у меня, и я тоже не все про нее понимаю.
Она все еще смотрит на меня.
— Извини, — наконец говорит она.
— За что? — спрашиваю я.
— За то, что заставила тебя подстричься в Лондоне, когда ты не была готова. Мне было так неловко, когда ты плакала.