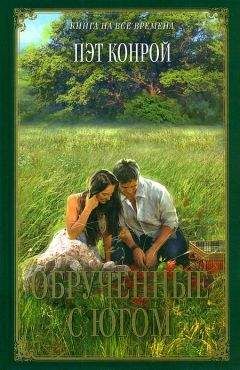— Вопрос закономерный. Я сам все чаще и чаще задаю его себе. А что ты отвечаешь?
— А в ответ — тишина. Вот что я отвечаю.
— Выслушай один совет, Чэд. Позвони Молли, сделай ей сюрприз. Пригласи на ужин сегодня вечером. А завтра приди на пикник к сестре.
— Я подумаю.
— И еще один совет. Если ты придешь, постарайся сделать приветливое лицо.
Воскресным утром я поднимаюсь с матерью по ступеням собора Святого Иоанна Крестителя. В ярких лучах солнца сооружение из красного песчаника отливает золотыми подтеками. Мы входим в вестибюль, внутренняя отделка собора сияет зрелым европейским великолепием. Проходим мимо незрячих глаз и безмолвных лиц святых, которые возвышаются над алтарем в позах религиозного экстаза.
Мы с матерью садимся на свои места, я слышу нестройный всплеск голосов за спиной. Оборачиваюсь — и с трудом удерживаюсь от смеха при виде Шебы По. На ней темные очки и самый мешковатый и скромный костюм, который ей удалось разыскать в своем гардеробе. Не знающая стыда королева эпатажа пытается незамеченной войти в собор и неприметно проскользнуть в боковой придел к исповедальне.
Демонстрируя прекрасное чувство сцены, под стать самой Шебе По, монсеньор Макс появляется из редко используемой боковой двери, великолепный в своем воскресном облачении цвета слоновой кости с золотом. Подобный райской птице, он шествует вдоль алтаря с высокими подсвечниками и подходит к исповедальной кабинке в тот самый момент, когда Шеба возникает за пунцовой занавеской, а из груди паствы вырывается вздох изумления. Учитывая популярность Шебы как персонажа таблоидов, наших прихожан можно извинить за эту реакцию на завораживающее зрелище: одна из самых отъявленных грешниц нашего времени направляется на исповедь со смиренным видом отшельника-августинца.
— Если она хочет каяться честно, ей придется провести в кабинке неделю, — изрекает моя мать достаточно громко, чтобы вызвать приглушенный смех соседей, и мне остается только с помощью локтя призвать ее к молчанию.
— Я могла бы предстать перед судом Господа хоть сегодня, прямо посмотрела бы Ему в глаза и сказала, что Его ничтожная раба исполнила свой долг. А ты, Лео, что собираешься сказать в день Страшного суда?
— Что моя мать проела мне всю печенку до самой задницы, — шепчу я.
— Как ты смеешь ругаться в священном месте?
— Господь поймет и простит. Он тоже когда-то был человеком из плоти и крови, как я. Его воспитывала Дева Мария. А меня ты.
— О боже! — замечая какое-то движение слева, восклицает мать. — Всего пять минут — и она выходит! Кого она думает водить за нос?
— Это касается только ее, Бога и священника.
— О боже! Она идет прямо сюда. Я уйду, если она вздумает сесть рядом с нами, и это не пустая угроза, имей в виду, сын.
Простой черный шарф покрывает волосы Шебы, она похожа на святую. Служитель подводит ее к нашей скамье. Я подвигаюсь, чтобы дать ей место, и встречаю яростное сопротивление матери, тело которой становится железным. Но я нажимаю плечом посильнее, и место для Шебы освобождается. Она заговорщически подмигивает мне и опускается на колени с покаянным видом.
Не владея собой от ярости, мать вскакивает, привлекая к себе всеобщее внимание, как кит, плывущий рядом с круизным лайнером, и требует, чтобы я выпустил ее, а также указал Шебе, что ей не место среди достойных католиков Чарлстона.
— Садись и молись, мать, — придерживая ее за рукав, шепчу я. — Мы должны быть вместе. Шеба обратилась к вере. Посмотри на нее. Она стоит на коленях у подножия креста, смотрит на распятого Иисуса.
— Дешевый спектакль, — шипит мать, садясь на место. — Ее карьера катится под гору. Она уже два раза делала подтяжку лица.
— Три, — говорит Шеба, не поворачивая головы.
Все дружно встают на ноги, когда монсеньор Макс выходит со своими алтарными служками в центр. Я с восхищением слушаю, как он читает молитвы, открывающие мессу. Еще с тех пор, когда сам был алтарным служкой, я являюсь поклонником того зрелища, в которое он превращает богослужение. В Римско-католической церкви, возможно, не все правильно, но в чем ей не откажешь — это в умении организовать шоу. Хотя моя вера с годами несколько размякла, я высоко ценю неизменность ритуала и навсегда останусь пленником евхаристии с ее божественной тайной.
Моя молитва тревожит и пугает меня, потому что исходит из какого-то темного угла души, который нежданно-негаданно обрел настойчивый голос. Мне ничего не остается, как прислушаться к идущим из глубины словам:
— Я должен помочь своим друзьям, Господи. Но мне одному не справиться. Мне нужна помощь, Твоя помощь. А мои друзья пусть помогут мне. Дай мне смирение принять их помощь. Позволь им избавить меня от моих страхов, печалей, черных мыслей. Я так долго ношу их в себе. Я прошу у Тебя помощи — если ее заслужил. Мне нужно на что-то опереться, мне нужен якорь, чтобы спастись. Прошу, дай мне знак. Простой знак, но понятный. Дай мне знамение, прошу, прошу.
Когда я снова открываю глаза, меня охватывает сильнейший страх, потому что моя молитва больше похожа на истерику, чем на разговор с Богом. Я стараюсь ровно дышать, пока служитель не пригласит к причастию. К моему удивлению, Шеба встала прежде времени. Когда священник подходит к ней, она наклоняется, целует меня в щеку и шепчет:
— Увидимся, солнышко.
Точно рассчитав момент, она берет протянутую руку священника, и тот ведет ее направо, куда уже спешит им навстречу монсеньор Макс. Шеба опускается на колени, монсеньор кладет облатку ей на язык. Она принимает ее, произносит молитву, крестится, а потом предоставляет служителю честь вывести ее через боковую дверь, под взглядами прихожан, которые наблюдают за этим спектаклем. Затем к причастию приглашаются первые ряды, и слетаются, словно стая ласточек, священники с потирами, прикрытыми белыми полотенцами.
— Шеба страдает манией величия, — прижимаясь губами к моему уху, шепчет мать. — Это было неуместно и неприлично.
— Грандиозный спектакль, — отвечаю я.
— Это храм, где поклоняются Господу, а не Шебе По с пластмассовыми титьками.
Мы подходим к алтарю и получаем причастие из рук монсеньора, который венчал моих родителей и крестил меня. Затем вслед за толпой выходим на Брод-стрит. Моя мать никак не может избавиться от навязчивых мыслей о Шебе По.
— Эта девка — блудница вавилонская. Она родилась в Содоме или в Гоморре.
— И все-таки она очаровательна, ведь правда? — Я не могу удержаться, чтобы не подразнить мать.
— Я отдаю предпочтение внутренней красоте. Красоте духовной. Такой, как у святой Терезы, у святой Розы или у святого Франциска Ассизского.
— А я нет. Лично я предпочитаю пластмассовые титьки.
Мать повисает у меня на руке, и мы разражаемся смехом на ступенях собора. Хотя мне приятно видеть ее смеющейся, я уверен, что это не к добру.
В 1974 году свадьба Горного Человека Найлза Уайтхеда и чарлстонской дебютантки Фрейзер Ратлидж, с ее родословной и безупречной репутацией, наделала в Чарлстоне много шума и потрясла общество, как землетрясение, для измерения силы которого не хватило делений на неподатливой городской шкале Рихтера. Ударные волны еще долго прокатывались по чопорным гостиным нашего города, напоминая о том, что бурная эпоха шестидесятых сделала свое дело и расшатала социальные барьеры в Чарлстоне. Виданное ли дело, чтобы сирота, без гроша в кармане, без роду без племени, завоевал сердце девушки, чьи предки поставили подпись под Декларацией о независимости, чьи деды, как по отцовской, так и по материнской линии, занимали пост президента Общества Святой Цецилии. Этот брак означал, что поколеблены устои и принципы гражданского общества. Хотя Фрейзер никогда не сталкивалась на опыте ни с революционерами, ни с бунтарями, непростой характер Найлза она распознала в самый первый вечер их знакомства. Будучи одной из лучших баскетболисток штата, Фрейзер прекрасно умела занимать сильную позицию на поле и применяла эти знания в повседневной жизни. Ее внутренняя сила и чистота произвели глубокое впечатление на Найлза, который никогда не испытывал таких чувств, пока нашим последним школьным летом я не познакомил его с Фрейзер.
Уорт и Гесс Ратлидж предприняли тщетную попытку разлучить эту пару, но их неуклюжие и недобрые усилия только сильнее сблизили влюбленных, подогрев решимость Фрейзер и страсть Найлза. Даже чарлстонские родители начали понимать, что когда молодой человек и девушка любят друг друга и их любовь прошла проверку огнем и мечом, то все социальные предрассудки и сословные принципы должны отступить. Найлз и Фрейзер считались только с законами, которые диктовало их противозаконное, с точки зрения окружающих, чувство. Фрейзер взяла Найлза за руку, и вдвоем они пересекли демаркационную линию, именуемую Брод-стрит. Найлз на руках перенес свою невесту через порог Томастон-Вердье-хауза, расположенного к югу от Брод-стрит, который родители невесты подарили новобрачным в качестве свадебного подарка. В глубине души родители надеялись, что брак этот будет коротким и бездетным. Потребовались годы, чтобы Гесс, мать Фрейзер, признала: союз ее дочери с Найлзом не вычеркнешь из жизни и не выбросишь вместе с утренним мусором на помойку.