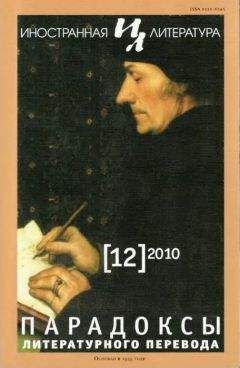Притяжение в самом деле слабело пропорционально расстоянию. Все очень просто, хотя потом Роза думала, что для достижения нужного эффекта дистанцию следует покрывать на машине, автобусе или велосипеде; полет на самолете не поможет. В городке где-то в прериях, откуда уже виднелись Кипарисовые холмы, она ощутила перемену. Она ехала всю ночь, пока солнце не взошло прямо у нее за спиной, и чувствовала спокойствие и ясность мысли — так всегда бывает с людьми в похожем положении. Она остановилась у кафе и заказала яичницу и кофе. Она сидела у прилавка, разглядывая обычные вещи, которые бывают за прилавком кафе, — стеклянные колбы кофеварки, ярко окрашенные (скорее всего, залежалые) куски пирога с малиновой и лимонной начинкой, толстые стеклянные креманки для мороженого и желе. Именно при взгляде на эти креманки она поняла, что ее состояние изменилось. Роза не стала бы утверждать, что нашла их форму особо приятной или выразительной, — это означало бы погрешить против истины. Она могла бы сказать только, что увидела их взглядом, который никак не мог принадлежать человеку в какой-либо из стадий любви. Она с блаженством человека, приходящего в себя после долгой болезни, ощущала их плотность, вещественность, и тяжесть этого блаженства приятно оседала у нее в голове и ногах. Только теперь она поняла, что входила в кафе даже без намека на мысли о Симоне, так что, по-видимому, мир перестал быть сценой, где Роза могла бы его встретить, и стал опять сам собой. Во время этого дивно ясного получаса — пока от завтрака на нее не накатила такая сонливость, что она заехала в мотель и уснула в номере одетая, при распахнутых солнцу занавесках, — она думала о том, как любовь уничтожает для тебя весь мир: и счастливая любовь, и тем более несчастная. Это не должно было удивить Розу и не удивило; удивило ее то, что она так жаждала и требовала для себя всего и сразу — простого и грубого, как те креманки, и теперь ей казалось, что, может быть, она бежит не столько от разочарования, потерь, разрушения, сколько от противоположных им вещей — праздника и потрясения любви, ослепительного переворота. Даже если все это окажется безопасным, она не сможет его принять. Так ли, эдак ли, а что-то у тебя отнимается: пружина внутреннего балансира, маленькое сухое ядрышко самости. Так думала Роза.
Она написала в колледж, что в Торонто, навещая умирающего друга, встретила старого знакомого, он предложил ей работу на западном побережье и она немедленно выезжает туда. Роза допускала, что руководство колледжа может попортить ей жизнь, но также полагала (и правильно), что они не станут связываться — у нее с ними была очень неформальная договоренность, и платили ей тоже в нарушение каких-то правил. Роза написала в агентство, через которое снимала дом, и еще — хозяйке лавки, желая ей удачи и прощаясь. На шоссе Хоуп — Принстон она вылезла из машины и встала под прохладным дождем, поливающим прибрежные горы. Она чувствовала себя в относительной безопасности, а еще — усталой и полностью нормальной психически, хотя знала: в ее прошлом есть люди, которые не согласятся с последним пунктом.
Ей сопутствовала удача. В Ванкувере Роза наткнулась на знакомого, который как раз подбирал актерский состав для нового телесериала. Сериал должны были снимать на западном побережье. Это была история семьи — или псевдосемьи, — состоящей из эксцентричных людей, дрейфующих по жизни наугад и использующих дом на острове Солт-Спринг как жилье или что-то вроде перевалочного пункта. Розе досталась роль владелицы дома, псевдоматери. Точно как она написала в письме: работа на западном побережье, возможно лучшая, что у нее когда-либо была. Розу должны были гримировать с использованием особых технологий, чтобы состарить лицо; гример шутил, что если сериал окажется успешным и будет идти несколько лет, то в конце концов эти особые методы уже не понадобятся.
Модным словечком на западном побережье было «хрупкий». Люди говорили, что сегодня чувствуют себя «хрупко», или упоминали о своем «хрупком состоянии». Только не я, отвечала обычно Роза. Я точно знаю, что сделана из старой дубленой лошадиной шкуры. Она уже начинала осваивать кое-какие обороты речи, манеры, которые понадобятся ей по роли.
* * *
Через год или около того Роза стояла на палубе парома, одного из многих, что ходят по Британской Колумбии. На ней был поношенный свитер, волосы замотаны платком. Она должна была красться между шлюпок, следя за хорошенькой молодой девушкой, которая мерзла в джинсах с отрезанными штанинами и маечке с открытой спиной. По сценарию женщина, которую играла Роза, боялась, что эта девушка прыгнет в воду, потому что беременна.
Съемка собрала приличную толпу зевак. Когда эпизод отсняли и актеры пошли под навес на палубе, чтобы накинуть пальто и выпить кофе, какая-то женщина из толпы потянулась к Розе и коснулась ее руки.
— Вы меня не вспомните, — сказала она, и Роза действительно ее не вспомнила.
Женщина заговорила про Кингстон, про ту пару, что тогда принимала гостей, даже про смерть Розиного кота. Роза узнала ее — это она тогда собиралась писать о самоубийцах. Но теперь женщина выглядела совсем по-другому — дорогой бежевый брючный костюм, на голове бело-бежевый шарф. Она уже не была потрепанной, жилистой, в бахроме, утратила бунтарский вид. Она представила Розе мужа, который хрюкнул, словно хотел сказать: «Если ты думаешь, что я начну вокруг тебя плясать, то сильно ошибаешься». Муж пошел куда-то, а женщина сказала:
— Бедный Симон. Он умер, как вам известно.
После этого она осведомилась, будут ли сегодня снимать еще что-нибудь. Роза знала, почему женщина об этом спрашивает. Она хотела затесаться в толпу на заднем плане — а может, и на переднем, — чтобы потом позвонить друзьям и сказать: меня будут показывать по телевизору. Если она станет звонить людям, которые были на той вечеринке, то ей придется сказать: она знает, что сериал — полная дребедень, но ее очень уговаривали и она решила сняться шутки ради.
— Умер?
Женщина сняла шарф, и ветер сдул ей волосы на лицо.
— Рак поджелудочной железы, — сказала она и встала лицом против ветра, чтобы опять намотать шарф на голову устраивающим ее образом.
Розе показалось, что женщина хитрит и знает больше, чем рассказывает.
— Не знаю, насколько хорошо вы были знакомы, — сказала женщина.
Может, она это нарочно — намекает Розе, что сама-то с Симоном была близка? Может быть, эта хитрость — на самом деле просьба о помощи, а может, попытка измерить степень Розиной победы или удивления. Женщина прижала подбородок к груди, завязывая шарф узлом.
— Очень печально, — уже деловито сказала она. — Печально. Он давно болел.
Кто-то звал Розу: ей пора было обратно на съемки. Девушка не бросилась в море. У них в сериале такого не случалось. Всегда что-нибудь такое грозило произойти, но в конце концов не происходило, разве что изредка, и то с эпизодическими или неприятными персонажами. Зрители доверялись авторам сериала и знали, что их оберегают от предсказуемых трагедий, а также от внезапных сдвигов, ставящих под вопрос весь сюжет, от беспорядка, что требует новых суждений и новых решений, требует распахнуть окно, за которым — неподобающий, навеки врезающийся в память пейзаж.
Смерть Симона показалась Розе именно таким беспорядком. Было нелепо и нечестно, что такое важное известие утаили и что Роза даже до сего дня могла считать себя единственным человеком, который по большому счету бессилен.
В былые дни, в эпоху лавки, Фло говорила, что может определить, когда какая-нибудь женщина вот-вот съедет с катушек. Первым признаком часто служило что-то необычное на голове или на ногах. Хлопающие галоши среди лета. Резиновые сапоги или тяжелые мужские рабочие ботинки. Женщины могли объяснять это мозолями, но Фло-то знала. Это было нарочно, чтобы возвестить всему миру. Потом появлялись старая фетровая шляпа, рваный плащ в любую погоду, штаны, подпоясанные веревкой, драные шарфы неопределенного цвета, многослойные свитеры с распускающейся вязкой.
Часто дочь повторяла сценарий матери. Это сидит в человеке с самого начала. Волны безумия — они подступают, как прилив, неумолимые, как хихиканье, идут откуда-то из глубин и постепенно завладевают тобой полностью.
Они часто рассказывали Фло свои истории. Фло поддакивала: «Да неужели? Это просто стыд-позор!»
У меня пропала терка для овощей, и я знаю, кто ее взял.
Когда я раздеваюсь перед сном, приходит мужик и смотрит на меня. Я опускаю жалюзи, и тогда он подглядывает в щелку.
У меня украли два бурта картошки. Банку персиков, целых, консервированных. Хорошие утиные яйца.
Одну из этих женщин в конце концов увезли в окружной дом престарелых. Фло рассказывала, что первым делом ее там искупали. Потом подстригли ей волосы, отросшие, как копна сена. Персонал дома престарелых ожидал, что в волосах что-нибудь найдется — дохлая птица или мышиное гнездо со скелетиками мышат. Нашлись репьи, сухие листья и пчела — должно быть, запуталась и билась, пока не погибла. Срезав волосы ближе к корням, санитарки обнаружили старую холщовую шляпу. Она сопрела на голове у женщины, и волосы пробились через нее, как трава через проволочную сетку.