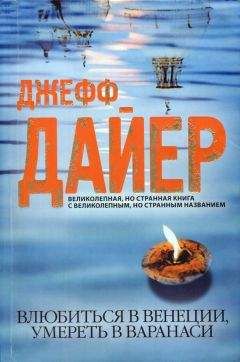Мы с Лалин шли в сумерках мимо Маханирвани-гхата. Вниз по течению плыли первые свечи. Крикетный матч был в самом разгаре. Мы немного постояли, посмотрели и уже готовы были уйти, когда отбивающий послал мяч в воздух. Он летел на меня, футах в трех над головой, в сторону Ганга. Я подпрыгнул и поймал его одной рукой; мячик влажно шлепнулся мне в ладонь и остался там. По всем мифическим канонам я не иначе как поймал сверкающую комету среди ночных небес. Но и тут, на земле, во вторник вечером, при весьма плохом освещении, это был живописно взятый мяч. Последовали аплодисменты и приветственные крики — от Лалин, игроков и немногочисленных зрителей. Отбивающий тоже хлопал в ладоши. Я воздел руки к небу, все еще сжимая грязный мяч, купаясь в лучах заслуженной славы. Потом я швырнул его обратно боулеру, и мы отправились обратно в гостиницу.
Мне было приятно, что Лалин присутствовала при моем триумфе. Мало просто совершить богоподобное деяние; надо еще, чтобы его увидели — желательно сами боги. Был ли даршан обоюдным явлением и в какой степени? Я точно не знал. Конечно, богам нужно, чтобы на них смотрели, — но любят ли они и сами наблюдать? Нравится ли им быть зрителями? Смотрят ли они на нас с тем же ужасом и любовью, с которыми мы — или хотя бы кто-то из нас — смотрим на них? Если это так, то мое недавнее сравнение с Бекхэмом и прочими знаменитостями было ошибочным. Ибо чего знаменитости не вольны делать, так это смотреть. Темные очки, за которыми им приходится прятаться, есть символическое выражение слепоты, на которую они обречены самим фактом того, что на них все время смотрят. В свой первый день на гхатах я почувствовал себя королевской особой и все последующие недели жил словно знаменитость — постоянный объект любопытства и пристальных взглядов. Я мог сколько угодно презирать этих людей, мог ничем не заслужить такое внимание, но то был момент, роднивший меня с хиппи. Тут было на что посмотреть. Здесь, в богоугодном Варанаси, можно было за десять минут увидеть больше, чем в небогоугодном Лондоне за неделю. Правда, здесь нужно было хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать или куда-то отправиться, — главным образом из-за того, что это неизменно вызывало целую бурю волнений. Я говорю это не просто так и не обманываюсь на сей счет. Иногда даже такое простое дело, как взять рикшу, сопровождалось всплеском ожесточенной конкурентной борьбы. А визит в храм Дурги превратил рутинный осмотр достопримечательностей в такую нервотрепку, что впору было вообще туда не ездить.
Храм находился в десяти минутах пешком от отеля. Он был выкрашен в нахально-красный цвет и настолько бросался в глаза, что было непонятно, почему его нужно было так долго искать. На территории храма висело объявление, что джентльменам неиндуистского вероисповедания вход внутрь воспрещен. Я расстроился, но меня тут же уверили, что нет, все нормально, и я могу войти, только для этого нужно разуться. Все это мне сообщил человек, представившийся одним из жрецов храма, брахманом, хотя выглядел он и действовал скорее как привратник. Такой, которого давным-давно уволили, но он все равно продолжает ходить каждый день на работу просто потому, что ему больше некуда пойти и нечем заняться. Прежде чем я бы допущен во внутренний храм, мне пришлось зайти с ним в маленькую, вонючую часовню, где мой лоб помазали священной пастой. Тут же появился кто-то еще, другой жрец-вахтер, и, несмотря на мои протесты, нацепил мне на шею гирлянду из ноготков, которая и была, как оказалось, источником вони. Казалось, что ее замариновали в моче, а после оставили гнить на пару дней. За привилегию носить на шее этот кошмар я, естественно, должен был заплатить. У меня была при себе только банкнота в сто рупий, но мне удалось настоять на полтиннике сдачи — не такое уж и маленькое достижение в ситуации, когда сдачи не просто нет, но когда о ней даже трудно помыслить. Далее двое жрецов-вымогателей в ранге привратников жестами призвали меня возложить гирлянду на лингам, что я исполнил с большим удовольствием, радуясь возможности избавиться от зловонного украшения. Меня начали подталкивать в сторону главного помещения, но во избежание дальнейших домогательств и кошмаров я влез обратно в сандалии и поспешил скрыться.
Все в этом приключении было омерзительно. Меня преследовал запах гниющих ноготков — запах религии, думал я, шагая обратно к Асси-гхату, примитивной, темной и сырой. Нелепо стремиться к такому состоянию ума, которое позволило бы воспринимать ее ритуалы как нечто священное. Нет, это просто фаза грязных задворков человеческой психики, через которую мы, как вид, рано или поздно пройдем. Но если все это казалось мне таким сейчас, то каким же оно предстало миссионерам, несущим христианскую весть — чистую и кровавую, тоскливую, как воскресенье в Уэльсе, когда они явились сюда в каком-то там веке? Эти бормочущие невесть что идолопоклонники со своими пуджами[164] вряд ли казались им менее ужасными, чем апачи в боевой раскраске со свисающими с седла скальпами бледнолицых.
На Ватс-Иарадж-гхате было начертано крупными буквами «Я ЛЮБЛЮ МОЮ ИНДИЮ!». Меня нередко подмывало крикнуть «Я тоже», но сейчас, после визита в храм Дурги, меня при виде его чуть не стошнило. Я не шучу. Я подцепил какую-то местную заразу и был вынужден без конца бегать в отель, чтобы воспользоваться туалетом. В целом ничего серьезного, особенно в сравнении с муками некоторых других туристов. Люди в отеле заболевали пачками и ползали по коридорам как вялые осенние мухи. Не самое подходящее сравнение, поскольку мухи здесь чувствовали себя отлично круглый год. Да и как могло быть иначе? Во времена моей юности в моде были футболки и постеры с вызывающими надписями вроде: «Ешь дерьмо — десять миллионов мух не могут ошибаться!» Возможно, эту надпись придумали здесь, ибо дерьмо в Городе Света (как когда-то называли Варанаси) было повсюду, причем самое разное. Это было дерьмо животных (обезьян, коз, коров, буйволов, собак, птиц, ослов, кошек, гусей), растений (валявшиеся повсюду гирлянды из ноготков быстро превращались в вонючую жижу) и, наконец (но далеко не в последнюю очередь), людей. В некоторых особо святых местах наверняка имелось и божественное дерьмо. Прабху-гхат, где дхоби безжалостно вбивали покорность в простыни и белье, был по умолчанию еще и туалетным гхатом. Ходить по нему было невыносимо. Зрелище поражало глаза, а запах — обоняние. В такие минуты рядом с «Я ЛЮБЛЮ МОЮ ИНДИЮ» хотелось приписать: «Если ты так ее любишь — значит, тебе на нее насрать». Было бы нелишне принять ради общего блага закон, воспрещающий гадить на гхатах. Как бы ни были люди бедны и невежественны, их можно приучить не использовать то, что фактически является прогулочной зоной, в качестве сортира. Правда, прежде чем это сделать, придется обеспечить их альтернативой, то есть туалетами, где они могли бы без помех справлять свою нужду. Наверняка в этом есть здравый смысл — трудно представить себе что-то более основополагающее, более важное. (Как часто, однако, в Варанаси, в месте, которое так трудно понять и постичь с какой бы то ни было долей уверенности, любые мысли — негодующие, раздраженные, гневные — начинаются с уверенного «наверняка»!) Что бы вы ни делали, как бы тщательно ни мыли руки, зажимали нос или держали рот закрытым, дерьмо неизбежно проникало внутрь. И как это никто до сих пор не выявил взаимосвязь между дерьмом и болезнями? Как культура, так страшащаяся осквернения любого рода, может оставаться безразличной к самой оскорбительной форме осквернения? Сколько ни старайся здесь остаться здоровым, все равно заболеешь. Это попросту неизбежно. Какую-нибудь гадость обязательно подцепишь. Да и как может быть иначе, если этот город — настоящий слоеный пирог из животных, людей и дерьма? Газеты и журналы изобиловали статьями о современном лике Индии — о барах и клубах Бомбея, о процветании Ченная, о том, что Бангалор — это Силиконовая долина Востока, — но, не считая интернет-кафе, ничего этого в Варанаси не было и в помине.
Бывали дни, когда я чувствовал себя героем реалити-шоу, про которое говорила Лалин; когда я был уверен, что Варанаси нужно стереть с лица земли, чтобы потом отстроить заново, руководствуясь идеями здоровья, гигиены и прогресса. В один такой день я решил взять быка за рога. Я пошел на берег реки, расстегнул ширинку и пописал в Ганг. Да-да, вы не ослышались: я пописал в Ганг. Мне ужасно хотелось в туалет, а пойти было некуда, но в то же время это был некий протест — нелепо поклоняться реке и одновременно ее загрязнять. Писать прямо в реку было, в целом, гигиеничнее, чем писать — и гадить! — на гхатах, откуда все это так или иначе попадало в воду. Был ранний вечер, поблизости никого не было, но все то время, что я писал — а это было одно из тех эпических излияний, когда процессу нет конца, — я ждал, что меня кто-нибудь заметит и что-то произойдет: сперва крики, а потом мордобитие, или сразу мордобитие, без всяких криков. Но ничего не случилось. Если меня кто-то и заметил — а это было совершенно неизбежно: в Индии ничего нельзя сделать незаметно, — и оскорбился, как оно наверняка и было, это сошло мне с рук.