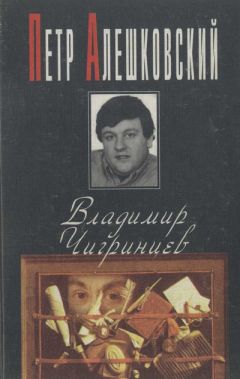В Нерехте все оставалось неизменным. В гостинице, в окошечке администратора, углубясь в дешевый детектив, сидела мать-командирша Раиса. Сонно, нехотя, отработанным жестом протянула бланк, явно его не узнала. Воля молча заполнил. Приняла паспорт, сверила фотографию с оригиналом, но ничего, даже тень не промелькнула на безразличном лице.
— Рая, в который селить? — Из подсобки выглянула Надежда: в том же платьице с идиллическим бантом, стрельнула глазками по постояльцу, но, кажется, тоже не узнала или, стесняясь, виду не подала?
Чигринцев не стал напоминать, ему думалось, что встретят, вспомнят сами. Надежда смутилась от его пристального взгляда, опустила глазки в пол.
— Давай в четырнадцатый, только прибери сперва, подождет, чай, не господин, не растает, — вынесла приговор Раиса.
— Конечно, я пока пойду прогуляюсь, — кивнул Чигринцев, проводил взглядом Надежду, но та неверно истолковала:
— Вы не волнуйтесь, я мигом! — Мило уже улыбнулась и припустила по коридору, дробно стуча каблучками.
Ночевать в гостинице резко расхотелось. Булыжная мостовая была сплошной лед. Светили тусклые фонари, смеркалось. Редкие горожане шныряли по магазинчикам на площади. Он побрел бездумно вверх, в горку, и скоро оказался у дверей большого купеческого собора. В соборе шла всенощная.
Молящихся собралось мало. Приходской хор старался что есть мочи — регент, пожилой, в толстых очках, губастый и добродушный дедушка, дробно махал ладонью. Батюшка был невероятно толст и одышлив, лицо с заплывшими глазками блестело, словно смазанное маслом, зато дьякон, маленький и худой, напоминал сурового разбойника: округляя рот, он возглашал так громко, что стены тряслись, напрягшиеся шейные жилы вот-вот, казалось, лопнут.
Чигринцев пристроился сбоку, в полумраке. У образа Николая Угодника тлела лампадка да горели две дешевенькие свечечки. Согбенная старушка со строгим лицом прошаркала к нему, не говоря ни слова, протянула поднос — в груде мелочи лежали редкие бумажки. Не глядя, Воля бросил синенькую сторублевку, старушка поклонилась, на выдохе произнесла: «Спаси Господь!» Так же медленно, как появилась, отошла, зашаркала к свечному ларьку.
Около Николиной иконы на стене висела фанерная коробочка под замком — сбор пожертвований на реставрацию. Никто за ним не следил — молящиеся были обращены взорами к алтарю. Он вынул оставшиеся княжнинские доллары, скоренько затолкал в копилку, не крестя лба, фланирующей походкой покинул храм.
Совсем стемнело и резко похолодало. Над городом зависла полная большая луна. Он спустился к гостинице, но заходить внутрь не стал, прогрел двигатель, врубил ближний свет, медленно покатил по улице в сторону московской трассы.
На шоссе было безлюдно и дико. Снег с силой лупил в ветровое стекло, дворники беспрестанно сновали, скидывая его прочь. Гудела печка, заполняла салон лишним жаром, но, стоило приоткрыть окно, холодный ветер со свистом выдувал тепло. Фары разрывали несущуюся темень. Чигринцев гнал сквозь пургу, ладони потели на руле, приходилось постоянно вытирать их о джинсы. Машина стонала, подпрыгивала на выбоинах, но держала дорогу — и несла, несла.
Часа два в таком темпе он еще выдержал, но после начал сдавать. Затормозил, съехал на обочину, не глуша мотора, вышел на мороз. Необозримое пустое поле раскинулось в оба конца, снег летел с неба мощной, бесконечной косой завесой. Луна — мелкая, далекая невидимка — ныряла в мчащихся, вьющихся клубами брюхатых тучах. Плакал, насвистывая, ветер, в беспредельной ярости гнал по ледяному асфальту серые, извивающиеся хвосты снежной пыли. Живое и грозное нечто носилось по полю, хрипело, скакало табуном, смеялось зло над одиноким путником. Чигринцев подошел ближе к обочине, расстегнул молнию, тугой горячей струей помочился в темноту.
Лицо пылало. Стихия еще безумствовала вокруг, но тут радостное, невероятное чувство свободы ворвалось в душу и окрылило: беззащитная улыбка расцвела на губах. Вот она растянула рот шире, и, уже не в силах себя сдерживать, он рассмеялся во всю глотку, как смеется увидавший нечто и впрямь комическое и межеумочное. Глаза слезились от секущего порывистого ветра. Печально светили красные габаритные огоньки, верный Росинант тихо вздрагивал: грязный и продрогший, он дожидался хозяина, чтобы продолжить дальнейший совместный их путь.
Прощай и люби меня! (лат.).