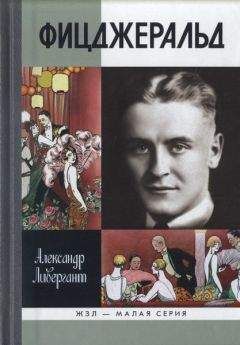— Я хочу закуску, — заявила Бонни.
— Что с тобой, девочка? На ночь это нехорошо.
— Я тоже хочу, — захныкал один из мальчиков.
— Старшие заказывают для младших, — не пошел на поводу у детей Дэвид. — Я расскажу вам о Прометее, и вы даже не заметите, что не получили желаемого. Прометей был прикован к высокой скале, и…
— Можно мне заказать абрикосовый джем? — спросила Джиневра.
— Так ты хочешь послушать о Прометее или нет? — теряя терпение, спросил Дэвид.
— Да, сэр. О да, конечно.
— Так вот, — продолжил Дэвид, — он висел и висел на скале многие годы…
— Это есть в моей «Мифологии», — с гордостью сообщила Бонни.
— И что потом? — спросил маленький мальчик. — Он там висел? А потом?
— Что потом? Ну… — Дэвид сиял от приятного возбуждения, с удовольствием демонстрируя детям свою эрудицию и обаяние, словно дорогие рубашки потрясенным лакеям. — Мм… Ты помнишь, что там произошло? — запинаясь, обратился он к Бонни.
— Нет. Я забыла, совсем давно читала.
— Если это все, можно мне еще компот? — вежливо спросила Джиневра.
Домой возвращались мерцающей огнями ночью, проезжая мимо деревень и садов, из которых над дорогой свешивали головы длинные подсолнухи. Дети дремали на подушках, защищенные сверкающей броней автомобиля Дэвида. Они были в полной безопасности в его роскошном автомобиле: в автомобиле-к-вашим-услугам, в автомобиле-тайне, в автомобиле-для-раджи, автомобиле-смерти, первоклассном-автомобиле, который, пыхтя, бросал хозяйские деньги на летний ветер, как вельможа — щедрое подаяние. Там, где в ночном небе словно бы отражалось озеро, они мчались, как воздушный шарик, мчались по округлости живого и плотного, как ртуть, земного шара. Они ехали сквозь черные, непроницаемые тени, клубившиеся над дорогой, словно дым из лаборатории алхимика, они летели мимо озаренных смутным светом горных вершин.
— Мне бы не хотелось быть художником, — сонно произнес мальчик помладше, — мне бы хотелось быть дрессированным морским котиком, — уточнил он.
— А я буду художницей, — заявила Бонни. — А они будут ужинать, когда мы ляжем спать.
— Но, — резонно возразила Джиневра, — мы уже поужинали.
— Да, — согласилась Бонни, — но ужинать всегда приятно.
— Только не когда полный живот.
— Когда живот полный, тогда уже все равно, приятно или нет, — не унималась Бонни.
— Почему ты все время споришь? — Джиневра холодно отвернулась и придвинулась ближе к окошку.
— Потому что ты перебила меня, когда я думала, что мне было бы приятно.
— Наверно, мы сразу поедем в ваш отель, — предложил Дэвид. — Вы ведь устали.
— Папа говорит, что трудности укрепляют характер, — сказал мальчик постарше.
— Боюсь, это испортит наш вечер, — произнес Дэвид.
Шагая по коридору вдвоем с отцом, Бонни неожиданно спросила:
— Полагаю, я не очень прилично себя вела?
— Не очень. Хорошо бы тебе понять, что общение с людьми гораздо важнее, чем переваривание пищи, знаешь ли.
— Но эти люди должны были вести себя так, чтобы я чувствовала себя хорошо, ведь правда? А они были все заодно.
— Дети всегда заодно, — отозвался Дэвид. — Бонни, люди похожи на справочники — никогда не находишь нужную информацию, однако читать все же стоит.
— У нас очень хорошие комнаты, — заметила Бонни. — А что это в ванной такое на потолке, из чего вода брызжет, как из шланга?
— Я тебе тысячу раз говорил не трогать того, чего не знаешь! Это что-то вроде огнетушителя.
— Они думают, что в ванной всегда может случиться пожар?
— Да нет же, пожары случаются очень редко.
— Конечно, пожар это очень плохо, но было бы забавно посмотреть, как все забегают.
— Ты готова лечь в постель? Я хочу, чтобы ты написала письмо маме.
— Да, папочка.
И Бонни уселась в тихой гостиной с большими величественными окнами, выходящими на словно нарисованную сепией площадь.
«Дорогая мамочка!
Как ты понимаешь, мы опять в Швейцарии…»
Гостиная была очень просторной и тихой.
«… швейцарцы очень интересные! Один служащий в отеле называет папу князем!..»
Под напором ветра занавески отодвинулись, потом плавно вернулись на свое место.
«…Figurez-vous, Маman[149], что я княжна. Представляешь, какие глупости приходят им в голову…»
Вокруг было многовато ламп даже для такой «шикарной» комнаты.
«…на мадемуазель Арьене было пальто от Пату. Она рада твоему успеху…»
Они даже украсили цветами комнату папы, чтобы сделать ее еще красивей.
«...Если бы я была княжной, то все делала бы по-своему. Я бы привезла тебя в Швейцарию…»
Подушки в гостиной были жесткие, но очень хорошенькие, с золотыми кисточками, свисающими вдоль ножек кресла.
«Мне было хорошо, когда ты жила дома…»
Тени задвигались. Лишь малыши боятся теней или вещей, двигающихся по ночам.
«…Мне пока почти нечего рассказать. Я очень стараюсь казаться избалованной…»
Вряд ли тени что-то скрывают. Но они перемещаются. Дверь открылась?!!
— О-о-ой! — в ужасе завизжала Бонни.
— Ш-ш-ш, — успокоил Дэвид дочь, обнимая ее, чтобы защитить от всех напастей.
— Я тебя напугал?
— Нет… Это тени. Иногда я делаюсь очень глупой, когда остаюсь одна.
— Понятно. Со взрослыми такое тоже случается.
Свет из окон отеля освещал сонный парк; в воздухе чувствовалось ожидание, похожее на поникший флаг, когда нет ветра.
— Папочка, не выключай свет.
— Еще не хватало! Тебе нечего бояться — у тебя есть я и мамочка.
— Мамочка в Неаполе, — сказала Бонни, — а когда я засну, ты обязательно уйдешь!
— Ладно, не выключу, но все равно это нелепо!
Через несколько часов, когда Дэвид на цыпочках вошел в спальню Бонни, то обнаружил, что там темно. Сама Бонни слишком крепко зажмурила глаза, и было ясно, что она не спит. Для большего спокойствия она все же немного приоткрыла дверь в гостиную.
— Почему ты не спишь?
— Я думала, — прошептала Бонни. — Тут лучше, чем в Италии с мамочкиным успехом.
— У меня тоже успех, — сказал Дэвид, — только я заработал его до твоего рождения, поэтому он для тебя привычен!
В тишине хорошо было слышно жужжание насекомых за окном, сновавших в кронах деревьев.
— Неужели в Неаполе было так плохо?
— Ну… — Бонни помедлила. — Конечно, я не знаю, каково там мамочке…
— Она что-нибудь говорила обо мне?
— Она сказала — сейчас вспомню, — я не знаю, что мамочка сказала. Она лишь сказала, папочка, что хочет дать мне один совет, вот такой: что нельзя быть пассажиром всю свою жизнь, надо самой сесть за руль.
— Ты поняла?
— Нет, — вздохнула благодарная и утешенная Бонни.
Лето пришло из Лозанны в Женеву, украшая берега Женевского озера, будто рисовало изящный узор на краешке фарфорового блюда. Поля желтели на жаре, горы напротив окон отеля оставались неизменными даже в самый солнечный день.
Бонни, изображая отрешенную от мира сивиллу, наблюдала за чернильной тенью горы Юра, вклинившейся между зарослями тростника и краем озера. Белые птицы, пролетавшие то тут, то там, словно бы расставляли нужные акценты в этом ограниченном, но огромном пространстве. Птицы были так похожи на значки ударения.
— Хорошо поспала, малышка? — спрашивали ее постояльцы, оправлявшиеся после долгой болезни и рисовавшие пейзажи в саду.
— Да, — вежливо отвечала Бонни, — но, пожалуйста, меня не отвлекайте — я стою на страже и должна сообщить о приближении врага.
— А можно мне быть королем замка? — спросил, высунувшись из окна, Дэвид. — И отрубить тебе голову, если ты прозеваешь вражеское войско?
— Ты узник, и я вырвала у тебя язык, так что тебе нечем жаловаться — но я все равно хорошо с тобой обращаюсь, — смилостивилась Бонни, — поэтому тебе не обязательно чувствовать себя таким уж несчастным, папочка. Только если ты сам захочешь! Лично я предпочла бы быть несчастной.
— Ладно, — согласился Дэвид, — я самый несчастный среди несчастных! В прачечной испортили мою розовую рубашку, и меня только что пригласили на свадьбу.
— Я запрещаю тебе покидать замок, — строго произнесла Бонни.
— Что ж, теперь я несчастлив вдвое меньше.
— Раз ты так, не буду больше с тобой играть. Ты должен быть печальным и тосковать по родному дому и любимой жене.
— Посмотри! Я уже весь в слезах!
Дэвид задрапировался полотенцем, скорбно застыв над купальными халатами, сохнувшими на подоконнике.
Посыльный, принесший телеграмму, явно был удивлен видом американского князя. Дэвид распечатал конверт.