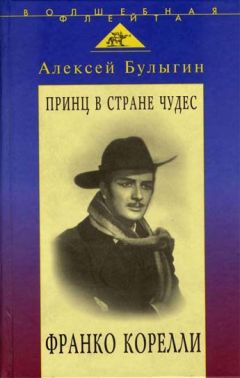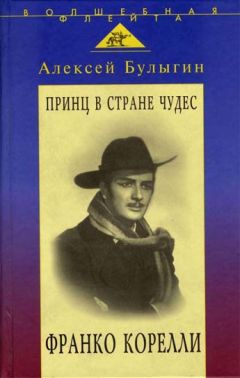Сидя на кровати, Корелли настолько углубился в свои упражнения, что забыл про спящую девушку – он принялся отрабатывать быстроту тремоло: его очень беспокоило, что приходится ежедневно играть не меньше четверти часа, чтобы оно получалось устойчивым и длительным. Капитан начал упражнение на технику, вполсилы пробегая взад-вперед плектром по верхней паре дискантов.
Пелагия проснулась через десять минут. Глаза ее распахнулись, и мгновенье она лежала, думая, что еще спит. Где-то в доме слышался такой красивый звук, словно дрозд приспособил свою песню к человеческим вкусам и изливал душу, сидя на ветке у подоконника. В окно врывались лучи солнечного света, ей было очень жарко, и она поняла, что проспала. Она села, обхватила руками колени и прислушалась. Потом, захватив одежду, лежавшую рядом с тюфяком, пошла одеваться в комнату отца, прислушиваясь к трелям мандолины.
Корелли услышал, как по кастрюле зазвякала ложка, понял, что Пелагия встала, и, все еще сжимая в руке мандолину, вошел в кухню.
– Бурды хотите? – спросила она, протягивая ему чашку с горькой жидкостью, которая теперь называлась кофе. Он улыбнулся и взял, чувствуя, как у него после езды верхом болит все тело: хорошо, что хоть не свалился с лошади, когда та начала вытанцовывать, еще бы чуть-чуть и… Бедра ныли, ходить было больно, и он присел.
– Как вы красиво играли, – заметила Пелагия.
Капитан взглянул на мандолину, как будто в чем-то ее обвиняя.
– Это всего лишь упражнения для тремоло.
– Я не разбираюсь, – ответила она, – только всё равно мне очень понравилось – под это так легко просыпаться.
Корелли смутился:
– Простите, что разбудил вас, я не хотел.
– Она очень красивая, – сказала девушка, показывая ложкой на инструмент, – чудесные украшения. От этого звук лучше становится?
– Вряд ли, – ответил капитан, поворачивая мандолину в руках. Он уже и сам забыл, какой изысканной та была. Кузов по краю отделан трапециевидными кусочками мерцающего перламутра, черная накладка под струнами выполнена как цветок ломоноса, инкрустированного многоцветными бутонами, – просто плод буйной фантазии мастера. На грифе черного дерева пятый, седьмой и двенадцатый лады были отмечены узорчатыми вкраплениями слоновой кости, а закругленный корпус набран из суживавшихся полос мелковолокнистого клена, искусно перемежавшихся тонкими вставками палисандра. Колки – в виде древних лир, и Пелагия заметила, что сами струны у серебряного струнодержателя были украшены маленькими шариками с ярким цветастым пушком.
– Потрогать, наверное, нельзя? – спросила она, а он крепче прижал мандолину к груди.
– Мать как-то уронила ее, так я ее чуть не убил. А еще у некоторых жирные руки.
Пелагия обиделась.
– У меня руки не жирные.
Капитан заметил, что она огорчилась, и объяснил:
– Руки жирные у всех. Приходится мыть и вытирать их перед тем, как дотрагиваться до струн.
– Мне пушистые шарики нравятся, – сказала Пелагия.
Капитан рассмеялся:
– Это – так просто, я и не знаю, для чего они, так обычно делают.
Она села напротив него на лавку и спросила:
– А почему вы на ней играете?
– Странный вопрос. А почему вообще что-то делаешь? Или вы имеете в виду, почему я начал на ней играть?
Пелагия пожала плечами, а капитан сказал:
– Я играл на скрипке. Понимаете, многие скрипачи играют на мандолине, потому что у них одинаковый строй. – Он, показывая, задумчиво пробежал ногтем по струнам, а Пелагия, чтобы не усложнять, сделала вид, что ей понятно.
– На ней можно исполнять скрипичную музыку, только нужно играть тремоло в тех местах, где для скрипки идут длительные ноты. – Он исполнил быстрое тремоло, чтобы снова пояснить сказанное. – Я бросил скрипку, потому что, как ни старался, выходило только вроде мяуканья. Выглянешь, а во дворе полно орущих кошек. Нет, серьезно, казалось, собралось все кошачье племя, если не больше, и соседи все время жаловались. Ну, и как-то дядюшка подарил мне Антонию, а до этого она принадлежала его дядюшке, а я понял, что, когда на грифе есть лады, я могу хорошо играть. Вот так и получилось.
– Значит, кошкам мандолина нравится? – улыбнулась Пелагия.
– Это малоизвестный факт, – доверительно сообщил он, – но кошкам нравится все в диапазоне сопрано. Альт они не любят, поэтому кошкам нельзя играть на гитаре и альте. Они просто уходят, задрав хвост. А мандолина им очень нравится.
– Значит, и кошки, и соседи остались довольны сменой инструмента?
Корелли радостно кивнул:
– И вот еще что. Люди просто не представляют, сколько великих мастеров писали для мандолины. Не только Вивальди или Гуммель, но даже Бетховен.
– Даже Бетховен, – повторила Пелагия. Одно из таинственных, внушающих благоговейный страх мифических имен, подразумевавших предел человеческих возможностей, – имя, которое, в общем-то, ей ничего не говорило, поскольку осознанно она никогда не слышала ни одного его музыкального произведения. Она просто знала, что это – имя всемогущего гения.
– Когда кончится война, – сказал Корелли, – я хочу стать профессиональным исполнителем и когда-нибудь напишу настоящий концерт в трех частях для мандолины и небольшого оркестра.
– Значит, вы хотите стать богатым и знаменитым? – поддразнила она.
– Бедным, но счастливым. Мне придется еще как-то зарабатывать. А вы о чем мечтаете? Вы говорили – стать доктором.
Пелагия пожала плечами, покорно, но скептически скривив губы.
– Не знаю, – произнесла она наконец. – Я знаю, что хочу заниматься чем-нибудь, а чем – не знаю. Женщинам же нельзя становиться врачами, да?
– Вы можете завести bambinos.[106] Все должны иметь bambinos. У меня будет тридцать или сорок.
– Бедная ваша жена, – неодобрительно сказала Пелагия.
– У меня нет жены, но я мог бы взять приемных.
– Вы могли бы стать учителем. Тогда днем вы занимались бы с детьми, а по вечерам оставалось время для музыки. Вы не сыграете мне что-нибудь?
– О господи, когда меня просят «сыграть что-нибудь», я забываю все, что знаю. И вечно нужно смотреть в ноты. Это очень плохо. Знаю – я сыграю вам польку. Написал Персичини.
Он устроил мандолину поудобнее и сыграл две ноты. Остановился, объяснив:
– Соскользнула. Беда с этими неаполитанскими мандолинами – спинки круглые. Часто думаю, что нужно достать португальскую, с плоской, да где ж ее возьмешь во время войны?
Он продолжил риторический вопрос теми же двумя нотами, прозвучавшими ритардандо, сыграл четыре переливистых аккорда, а затем такт, который разрушал ожидания слушателя, созданные предыдущим исполнением, пару шестнадцатых и тут же разразился каскадом шестнадцатых – и в аккордах, и порознь. Пелагия от удивления разинула рот. Никогда прежде она не встречалась с такой виртуозностью, никогда не знала, что музыкальное произведение может быть так полно сюрпризов. Здесь были внезапно вспыхивающие тремоло в начале такта и места, где мелодия, не теряя темпа, запиналась или длилась с прежней быстротой, несмотря на то, что казалась ополовиненной или удвоенной. Лучше всего были те места, где нота, столь высокая по тону, что едва звучала, оживленно спускалась сквозь гамму и падала на звучную басовую ноту, которой едва хватало времени прозвенеть перед наступлением сладкого чередования баса и дисканта. Пелагии захотелось танцевать или выкинуть какую-нибудь глупую шутку.
Она с удивлением наблюдала, как пальцы его левой руки, подобно мощному, грозному пауку, перебегали вверх и вниз по грифу. Под кожей шевелились и напрягались жилы, а на его лице играла целая симфония выражений: временами оно становилось ясным, иногда – внезапно яростным, порой он улыбался, время от времени выражение бывало жестким и властным, а затем – просящим и нежным. Прикованная этим зрелищем, она вдруг поняла, что в музыке есть то, что никогда не открывалось ей прежде: не просто извлечение мелодичных звуков – для тех, кто понимал, музыка была и чувственной одиссеей, и требовала размышления. Пелагия смотрела на лицо капитана и уже не следила за музыкой – ей хотелось разделить с ним это путешествие. Наклонившись вперед, она, как в молитве, сцепила руки.
Корелли повторил первую часть и неожиданно завершил ее широким аккордом, мгновенно заглушив его. Пелагия почувствовала себя так, словно ее чего-то лишили.
– Ну, вот, – произнес он, отирая лоб рукавом. Она была взволнована, хотелось подпрыгнуть и сделать пируэт. Но она лишь сказала:
– Я просто не понимаю, почему такой артист, как вы, опустился до того, чтобы стать военным.
Он нахмурился.
– Не думайте о военных плохо. У военных есть матери, знаете ли, и большинство из нас, в конце концов, становятся фермерами и рыбаками, как и прочие.
– Я хочу сказать, что для вас – это пустая трата времени, только и всего.
– Конечно, это пустая трата времени. – Он поднялся и взглянул на часы. – Карло сейчас должен приехать. Ну, пойду уложу Антонию.