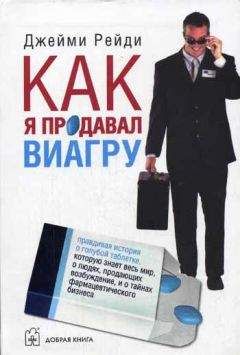67 бойцов вместе со мной – столько нас было до ракетного удара. Во время взрыва погибло девять человек, одиннадцать было тяжело ранено. Во время штурма комендатуры и обстрела САУ мы потеряли еще троих убитыми и пятерых ранеными. Раненых мы оставили. Мы не могли брать их с собой. Мы надеялись, что федералы не станут всех раненых записывать в боевики, в тот день ранения получили сотни гражданских лиц.
Всего убитыми и ранеными мы потеряли 28 бойцов. То есть под моим началом должно было оставаться 38, я – 39-й.
Но у командного пункта собралось 27, всего 27, это вместе со мной. Дюжина апостолов разбежалась по домам. Что мне было делать, веревками их к себе привязывать? Обидно было, что дезертиры не возвращали оружие и боеприпасы. А нам боеприпасы тоже были нужны, не только русским. Да и глупо: федералы найдут в доме хоть один патрон и – привет, фильтрационный лагерь, прощай жизнь.
Еще два дня мы оставались в Шали. Мы следили за дорогой на Атаги. Наш КП был по-прежнему в школе.
Когда в село, наконец, зашли федералы, мы приняли бой. Здесь, в школе.
Две БМП подошли со стороны центральной площади. И около полусотни автоматчиков. Школу взяли в полукольцо. Нас не блокировали, нас выдавливали. Мы вполне могли уйти.
Но мы не ушли.
Не так быстро.
Сначала с крыши заработали по автоматчикам снайперы Ибрагима. Потом со второго этажа, из окна кабинета завуча-организатора, ударил тяжелый пулемет Мовлади. Стрелки Юнуса били очередями по залегшим федералам из окон первого этажа.
БМП федералов успели отойти из зоны досягаемости наших гранатометов. И открыли огонь из пушек. После нескольких выстрелов у школы не осталось крыши. Люди Ибрагима погибли все. Прямое попадание в окно, из которого бил пулемет, не оставило шансов выжить для пулеметчика. Огнем из автоматов и подствольных гранатометов была выбита половина бойцов Юнуса. Бой за школу шел всего двадцать минут. Я понял, что в живых нас осталось не больше десяти человек.
Я лежал на полу у окна на первом этаже школы. Рядом со мной лежал Адам. Время от времени я поднимался и давал очередь в сторону противника. Адам не поднимался. В его голове было две лишних дырки: аккуратное входное отверстие от пули во лбу, выходное отверстие на затылке – рваное, выбиты куски черепа. Легкая смерть. Я поднял глаза на крышу дома по соседству со школой. В этом доме когда-то жила моя одноклассница. Да, на третьем этаже, под самой крышей… теперь на крыше, видимо, был российский снайпер.
Вжавшись в угол, я снял рацию с пояса:
– Говорит Нестор. Все, кто меня слышит: пожарный выход, через спортплощадку, направо от хлебозавода, во дворы, поодиночке.
Всего сто метров от пожарного выхода до дворов, в которых можно скрыться, потеряться. Эта сторона не простреливалась. Школу до сих пор не окружили, не блокировали.
Во вторую войну это случалось нередко. Федералы, даже когда могли полностью окружить и уничтожить наши отряды, предпочитали тактику «выдавливания». Видимо, кому-то там, наверху, не хотелось, чтобы война закончилась слишком быстро.
Нас было шестеро, встретившихся у запасного выхода. Мы кивнули друг другу и перебежками, по одному, вырвались со школьного двора.
А в школе еще оставалось двое бойцов. Может, они решили прикрыть наш отход. Или ничего о нем не знали: не у всех были рации. Мы слышали, как трещат их автоматы. Потом разрывы гранат. И треск автоматов смолк.
Но мы были уже в безопасности, пробирались садами, огородами, изорванные, в крови, в гари, с оружием, пугая своим видом хозяев дворов, бежали дальше от школы, дальше от центра, дальше от Шали, дальше, дальше, в лес, в горы, туда, в неизвестное направление.
Вот так, братишка, так все закончилось. Шалинский рейд. А война? Война продолжалась.
12 января в Европе, в Мюнхене, состоялось заседание Совета Безопасности, на которое так надеялся Аслан Масхадов. Как оказалось, совершенно зря. Никаких особенных резолюций по Чечне Совбез Европы не принял. Да если бы и принял, кому в новой России было бы до них дело?
Оборонять Грозный больше не имело никакого смысла. И чеченцы пошли на прорыв. А тут все, как всегда, запуталось. То ли федералы обманули, «продали» коридор, а сами устроили минное поле и засаду, то ли, наоборот, честно продали «коридор», а чеченцы сами виноваты – отклонились от предписанного маршрута, решили срезать угол и попали на мины. Из пятитысячной грозненской группировки меньше половины боевиков смогли вырваться. Около трех тысяч подорвались на минах. Шамилю Басаеву оторвало ногу.
Отход чеченских войск сопровождался их планомерным уничтожением.
Но были и парадоксальные бои. Измотанные голодным походом курсанты Хаттаба полностью уничтожили роту десантников под Улус-Кертом.
К июню 2000 года вооруженные силы Ичкерии были в общем и целом разгромлены.
Знаете, доктор, я ведь был там. В школе. После, после. Совсем недавно. В саму школу я не заходил. Я постоял в школьном дворе. Обошел здание. Потом по беговой дорожке, вдоль футбольного поля. И маленький школьный парк.
И в школьном парке у меня было видение. Вас это наверняка заинтересует. Ведь вы спрашивали, не случаются ли у меня галлюцинации. Я ответил: нет, кажется, нет. Просто иногда я вижу прошлое. Иногда я вижу будущее. Иногда я вижу то, чего нет, но что могло бы быть, если бы не. Еще, бывает, я вижу то, что видел бы другой, если бы он, другой, был жив, а я нет. Если бы не получилось наоборот. А галлюцинации? Нет, галлюцинаций со мной не случается.
Школа… да… школу отремонтировали. Поставили новую крышу, накрыли красной металлической черепицей. Заложили кирпичом пробоины, облицевали стены пластиковым сайдингом нежного кремового цвета. Вставили белые пластиковые окна.
Двор был раньше заасфальтирован. Теперь выложен узорной плиткой.
И ничего больше нет. Ни царапин от осколков, ни воронок. Все скрыто, спрятано, под узорной плиткой, под нежным пластиковым сайдингом.
А вот асфальт беговой дорожки – он остался тем же самым, по которому бегал наш класс, сдавая нормативы на уроках физкультуры. И футбольное поле. Те же самые ворота из толстых сваренных буквой «П» труб, врытых глубоко в землю, те же самые, ничего с ними не сталось, за все это время… за все это время… а сколько его прошло?
Деревья в школьном парке. Тополя. Их стало меньше. Те, что стояли ближе к школе, вдоль двора, были изуродованы снарядами, минами, гранатами. Их спилили под корень. И даже выкорчевали пни. Чтобы не портили общего чудесного вида.
А те деревья, что были подальше, что росли рядом с футбольным полем, они почти все уцелели. Те же самые деревья. Теперь они стали старше. Их стволы потолстели. Годовые кольца, помню, мы изучали на уроках ботаники. Годовых колец стало больше. На сколько?..
Я стоял у края парка и поля, на беговой дорожке, на линии, по одну сторону которой было написано «СТАРТ», а по другую «ФИНИШ», только буквы были перевернуты, если смотреть со стороны старта, а со стороны финиша – наоборот, перевернутыми казались буквы старта, я стоял на черте, смотрел в парк, на деревья, видел школу, видел детей, подростков, они вышли во двор фотографироваться на память, синие юбки до колен и брюки, белые блузки и рубашки, банты, алые ленты «ВЫПУСКНИК» через плечо, они смеялись, был май, май, май, снова май, снова последний звонок и выпускной, и школьный бал, и солнце, и синее небо, и цветы, и глаза, сияющие, как солнце, синие, как синее небо, нежные, как лепестки роз, и розы, нежные, как твоя ладонь, к которой я не должен был прикасаться, но ты сама коснулась моей руки и смотрела в мои глаза, и тогда я…
Упал в обморок.
Но я не упал.
Я стоял. Нет, у меня не потемнело в глазах. Скорее, все сияло и искрилось. И было такое… счастье. Знание. Вечность.
Да, доктор, вы совершенно правы. Схожие ощущения описывают больные эпилепсией. Я тоже про это читал… предвестники… да, знаю… это обычно перед припадком. Но у меня не было припадка. Я не упал на землю, не бился в конвульсиях, у меня не текла пена изо рта, и мне не оказывали первую помощь, вытаскивая провалившийся в глотку язык.
Я стоял на этой линии, белой. Я смотрел на школьников. Сначала мне просто стало казаться, что… вот этот кучерявый мальчишка – это же Анзор! Из моего класса. А та рыжая девочка… с двумя хвостиками… конечно, Лариса! В общем, я узнавал своих одноклассников и одноклассниц. Узнавал учившихся в одно время со мной в параллельных классах или на класс – другой младше меня. Всех, кого я мог видеть здесь, на этом самом месте, но тогда.
Двадцать. Ровно двадцать лет назад.
Ровно двадцать лет назад, когда у меня был последний звонок, выпускной школьный бал.
И, доктор, я вовсе не думал, что я и вправду их вижу. Я помнил, что прошло двадцать лет и теперь мои школьные товарищи, те, кто остались живы, выглядят… несколько иначе, да. Как и я сам.