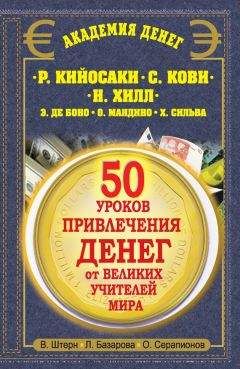Хозяева (мать, отец и сын, от лица которого ведется повествование) возмущены, шокированы и готовы к протесту, и в то же время в действиях и манерах оккупантов чувствуется какое-то неясное право, заведомая безнаказанность и явное социальное превосходство.
О целях своего появления гости высказываются более чем туманно. Ситуация, в которой средний американец или, допустим, француз стал бы немедленно и по возможности с оружием в руках оборонять свое жилище, подавляет советских квартиросъемщиков заложенной в ней неотвратимостью и тем неведомым западному обывателю чувством, которое проще всего выразить словами: «Значит, так надо…»
Жизнь идет своим чередом, оккупанты более или менее вежливы и даже любезны с хозяевами, если не считать того, что они категорически отказываются давать какой бы то ни было отчет в своих действиях на территории чужой квартиры.
Но вот ситуация несколько проясняется. В том же доме, в квартире напротив, проживает известный писатель-диссидент. Когда-то писатель был обласкан и возвеличен, но чем дальше, тем все более его творчество шло вразрез с канонами соцреализма, и, наконец, его рукописи отправились на Запад, где и увидели свет на многих языках, включая русский.
Результатом всего этого стали привычные тернии русского писателя, преданного родной культуре и своему народу и превращенного властями в конспиратора и заговорщика.
Таинственные личности, узурпировавшие чужую квартиру, оказываются функционерами КГБ, в их задачи входит слежка за писателем и его окружением, пресечение его контактов с иностранцами, а главное — попытки воспрепятствовать движению очередной его рукописи через таможенные кордоны.
Показательно, что в рассказе нет ни злодеев (хотя на всем его протяжении творится явное и безнаказанное зло), ни героев и праведников (хотя одно из действующих лиц — писатель-диссидент — многострадальная жертва несправедливости). Георгий Владимов — мастер, и он замечательно подметил одну из чрезвычайно характерных особенностей нынешней карательной системы в России. Функционеры КГБ почти не испытывают личной антипатии к писателю-диссиденту. Насколько им это доступно, они даже испытывают что-то вроде сострадания к нему, более того — цитируют неофициальные художественные тексты, с некоторым почтением говорят о друзьях писателя Ахмадуллиной, Высоцком, Окуджаве. Но они — часть машины, функционеры, люди функции, а не чувства и долга. И потому их личные симпатии и антипатии не имеют ровным счетом никакого значения. Следуя функции, они готовы, если понадобится, совершить любое злодейство, не останавливаясь буквально ни перед чем. Более того, если бы они попытались выйти за пределы, диктуемые им функцией, карательная машина уничтожила бы их самих.
Владимов с редкой проницательностью воспроизводит, может быть, самую дикую и в то же время характерную черту нынешней советской действительности, а именно — тот сплав ужаса и скуки, обыденности и безумия, при котором самые естественные человеческие поступки вызывают ощущение чуда, а самые фантастические события воспринимаются как повседневная рутина.
Так постепенно норма становится исключением из всех правил, а трагический гротеск приобретает будничные и привычные очертания.
В рассказе дан тонкий психологический анализ поведения хозяев (или бывших хозяев) квартиры, в которой происходит действие. Если сначала молодой благополучный ученый, от лица которого ведется рассказ, ищет возможности предупредить писателя о слежке и грозящей ему опасности, то затем, шаг за шагом, взвешивая меру риска, отказывается от этой идеи и более того — начинает испытывать досаду по отношению к человеку, причиняющему ему, аспиранту, будущему кабинетному ученому, столько душевного неудобства.
Так Владимовым подмечена еще одна характерная, увы, черточка нашей жизни — создание блуждающей, уже не связанной с традиционными ценностями нравственной шкалы, подвижные мерки которой всегда соответствуют нашим колеблющимся, уступчивым и слабым натурам…
Рассказ написан легко, изящно, со свойственным Владимову юмором и без малейшего нагнетания ужасов, и все-таки, читая его, испытываешь чувство обреченности и бессилия.
В образе писателя-диссидента использованы реальные черты биографии самого Владимова, который был популярным советским писателем, с каждым следующим романом все острее сталкивался с цензурой, подвергался газетно-журнальной травле, долгие годы не издавался в Союзе, приобретал тем не менее мировую известность, героически противостоял нажиму со стороны КГБ и, наконец, под влиянием опасности, грозившей его жене Наталье Кузнецовой, выехал на Запад.
Мы знаем, что Владимов в безопасности, что «маэстро» продолжает работу, и убеждаемся в том, что его приезд из страны абсурда был не только физическим спасением, но и единственной возможностью защититься от безумия.
Достоевский против Кожевникова
Недавно московское радио передало драматическое сообщение корреспондента ТАСС из Нью-Йорка. Журналист рассказывает о том, как он побывал в крупнейшем книжном магазине «Барнс энд Нобл» на углу 48-й стрит и 5-й авеню и почти не обнаружил в этом гигантском хранилище произведений русской и советской классики. Лишь после долгих консультаций с продавцами ему удалось разыскать несколько томиков Толстого, Достоевского и Тургенева, а в ходе бесед с посетителями магазина у него возникло ощущение, что средний американец оскорбительно мало знает о русской литературе.
Далее корреспондент ТАСС, ссылаясь на данные журнала «Паблишерс уикли», утверждает, что в Америке издано очень мало книг советских писателей и к тому же — ничтожно малыми тиражами.
В заключение корреспондент приводит внушительные данные, свидетельствующие о жадном внимании советских читателей к американской литературе, называет астрономические цифры тиражей, перечисляет множество различных и весьма достойных издательских начинаний в СССР.
Начнем с того, чтó в этом сообщении корреспондента ТАСС более или менее соответствует реальной действительности.
Конечно, американцы в среднем, как я предполагаю, читают меньше, чем советские люди, и это вполне естественно. Возможности американского досуга так велики и разнообразны, от бесконечных форм туризма до неисчислимых клубов и учреждений шоу-бизнеса, что книга, общение с книгой — лишь один из пунктов в длинном списке самых заманчивых возможностей, в то время как формы советского досуга крайне ограничены.
Существенно еще и то, что американцы, по традиции и по статистике, больше интересуются собственной литературой, чем творчеством зарубежных авторов. Американская жизнь так динамична и разнообразна, в ней ежедневно разрешается такое количество проблем, возникает такое количество сенсаций, что среднего американца в первую очередь притягивают новинки собственной культуры. Однако, по мнению Ашбеля Грина, ведущего редактора издательства «Кнопф», к русской культуре американцы всегда проявляли интерес, во всяком случае более заметный и явный, чем к французской, немецкой или итальянской.
В Америке есть своя замечательная интеллигенция, которая оценила и музыку Шостаковича, и холсты Кандинского, и фильмы Параджанова, и прозу Бабеля, Булгакова или Паустовского.
Тем не менее в общем потоке американской книжной продукции переводы русской классики и тем более — произведений советской литературы занимают довольно скромное место.
Почему?
В Союзе издательская политика жестко определяется идеологической конъюнктурой. Книги сознательных, идейно выдержанных писателей выходят заведомо определяемыми громадными тиражами, принося авторам ощутимые материальные блага. Творчество же несознательных, идейно чуждых писателей игнорируется, замалчивается, и к ним то и дело применяются самые жесткие воспитательные меры.
В Америке тоже есть конъюнктура, но не идеологическая, а финансовая, то есть конъюнктура рынка, спроса.
Разумеется, то и дело выходят здесь книги, не рассчитанные на массовый интерес, делается это из соображений престижа или из любви к подлинному искусству, но основной поток американской книжной продукции регулируется, повторяю, конъюнктурой рынка.
Лучшие из советских писателей публиковались на Западе в переводах и находили здесь благодарный читательский отклик. Я не могу привести здесь огромный список, назову лишь самые известные имена — Шолохов, Федин, Каверин, Симонов, Панова, Гранин, Трифонов, Рытхеу, Искандер, Окуджава. Даже Панферов, автор чудовищного романа «Бруски», издавался в Америке в пору увлечения леволиберальными идеями. Не говоря о Горьком, Алексее Толстом, Макаренко, Сейфулиной, Форш…
Если завтра американские редакторы и литературные агенты с их профессиональной репутацией вдруг почувствуют, что книги Чаковского, Маркова, Кожевникова и Пикуля могут иметь читательский спрос, произведения этих авторов будут немедленно изданы, и никакие идеологические причины не смогут этому помешать.