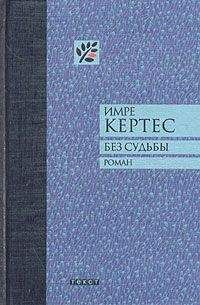Пройдя несколько шагов, я увидел наш дом. Он был цел, невредим и выглядел в общем неплохо. В подворотне меня встретили прежние запахи, на лестничной клетке – ветхий лифт в решетчатой шахте и старая лестница с вытертыми желтыми ступенями, а выше я увидел и тот, памятный мне уголок площадки, где я пережил незабываемые мгновения. Я поднялся на второй этаж, позвонил в нашу дверь. Ее скоро открыли, но ровно настолько, насколько позволил внутренний засов с цепочкой; я даже удивился немного, поскольку что-то не помнил, чтобы у нас была такая цепочка. В дверной щели появился кто-то чужой: на меня смотрело желтое, худое лицо женщины средних лет. Она спросила, кто мне нужен; я ответил, что живу здесь. «Нет, – сказала она, – здесь мы живем», – и попыталась закрыть дверь, но не смогла: я вставил в щель ногу. Я попробовал объяснить ей, что она ошибается, ведь именно отсюда я ушел в то давнее утро, и совершенно точно, что живем здесь мы; она же толковала мне, что это я ошибаюсь, поскольку нет никаких сомнений, живут тут они, и вежливо, даже любезно, но с сожалением трясла головой, норовя закрыть дверь, в то время как я старался помещать ей в этом. В какой-то момент, когда я поднял глаза, посмотреть, не ошибся ли я в самом деле номером, и, видимо, на секунду забыл о ноге, – ее старания увенчались успехом, и я услышал, как она дважды повернула ключ в замке захлопнувшейся двери.
Я пошел назад, к лестнице, и тут увидел знакомую дверь, которая заставила меня остановиться. Я позвонил; вскоре в дверном проеме обозначилась крупная, расплывшаяся фигура женщины. Она тоже хотела было сразу закрыть дверь – я уже не удивился бы этому, – но тут за ее спиной блеснули очки, и в полутьме бледным пятном проступило бледное лицо дяди Флейшмана. А рядом с ним возникли шлепанцы, объемистый живот, большая рыжая голова с детским пробором и погасшая изжеванная сигара – это был дядя Штейнер, точь-в-точь такой, каким я его видел вечером накануне таможни, как будто лишь вчера. Они стояли, смотрели на меня, потом, почти одновременно, произнесли мое имя, а старик Штейнер даже обнял меня, прямо так, как я был, в фуражке и пропотевшей полосатой робе. Они повели меня с собой в комнату, а тетя Флейшман побежала в кухню, поискать, не найдется ли мне что-нибудь «перекусить с дороги», как она сказала. Мне пришлось отвечать на обычные в такой ситуации вопросы: откуда, как, когда, где; потом я тоже задал несколько вопросов – и узнал, что в нашей квартире действительно живут другие. «А как теперь мы?» – спросил я – и, поскольку они с трудом подыскивали, что ответить, добавил: «Как отец?» – и тут они совсем замолчали. Спустя какое-то время чья-то рука – думаю, дяди Штейнера, кажется, – медленно поднялась, двинулась в мою сторону и, словно старая, осторожная летучая мышь, опустилась на мой локоть. Из того, что они мне рассказали, я, в сущности, уловил лишь, что «в достоверности печальной вести сомневаться, увы, никаких оснований нет», поскольку она «опирается на свидетельства бывших соратников»: они сообщили, что отец мой «скончался после недолгой болезни» в «одном германском лагере», который, правда, находится, собственно говоря, на австрийской территории, ну… как бишь его. .. ммм; «Маутхаузен», – подсказал я, и они обрадованно закивали: «Да-да, точно, Маутхаузен», – потом опять помрачнели. Затем я спросил, известно ли им что-нибудь о матери, и они сразу ответили: а как же, известно, с ней все в порядке, она жива-здорова, пару месяцев назад заходила сюда, они ее сами видели, разговаривали с ней, она про меня спрашивала. «А мачеха?» – поинтересовался я – и услышал в ответ: «Ну, она тут уже замуж успела выйти!. .» – «Ну да? – удивился я. – И за кого же?» Имя они опять затруднились вспомнить. Один сказал: «Вроде за какого-то Ковача». Второй с ним не согласился: «Да нет, не Ковач он. Скорее – Футо». – «Шютё», – сказал я, и они опять радостно закивали: «Да, да, конечно, Шютё», – точно как перед этим. Она ему многим обязана, «собственно говоря, всем», стали они объяснять мне, ведь это он «спас состояние», он «прятал ее в трудные времена» – так они выразились. «Пожалуй, – задумался дядя Флейшман, – чуть– чуть все-таки поторопилась она с этим»; и против этого даже дядя Штейнер ничего не возразил. «Однако, в конце концов, – добавил дядя Штейнер, – понять ее можно»; и тут уж дядя Флейшман с ним согласился.
Я еще посидел с ними какое-то время: очень давно я не сидел вот так, в мягком кресле с бархатной бордовой обивкой. Из кухни пришла тетя Флейшман, принесла на белом фарфоровом блюде с цветной каемкой хлеб, смазанный жиром, посыпанный красным перцем и тонкими кружочками репчатого лука: о, она помнит, раньше я очень любил такие бутерброды, я же с готовностью подтвердил, что в этом смысле ничего не изменилось. Пока я ел, старики, Штейнер и Флейшман, поведали о том, как они жили; «да уж, чего там, дома тоже было нелегко». Из их рассказа вырисовывалось нечто смутное, бессвязное, лишенное всякой последовательности, какой-то клубок путаных событий, в которых я, в сущности, не очень-то мог разобраться. Лишь одно слово звучало очень часто, почти утомив меня своим беспрестанным повторением: с его помощью они вводили каждый новый поворот, каждое новое изменение: так,
например, «пришел» дом с желтой звездой, «пришло» пятнадцатое октября[78],
«пришли» нилашисты, «пришло» гетто, «пришла» набережная Дуная[79], «пришло» освобождение. Ну, и еще я заметил обычную ошибку: все эти размытые,
кажущиеся просто-таки непредставимыми и в подробностях, как я видел, даже для них самих уже не поддающимися полному восстановлению события словно протекали не в нормальном русле минут, часов, дней, недель и месяцев, а случались едва ли не все сразу и скопом, как бы в едином безумном смерче, или, скажем, словно речь шла о некой странной вечеринке, которая вдруг, ни с того ни с сего, обернулась неистовой оргией, когда многочисленные участники, будто получив некий тайный импульс, внезапно теряют голову и в конце концов сами не ведают уже, что творят. В какой-то момент старики умолкли, потом Флейшман вдруг обратился ко мне с вопросом: «Ну, и что ты собираешься делать дальше, какие у тебя планы?» Я немного удивился и ответил: «Да я об этом вообще-то не думал еще». Тогда шевельнулся второй старик, наклоняясь ко мне. Летучая мышь опять поднялась в воздух, но опустилась уже не на локоть ко мне, а на колено. «Первым делом, – сказал он,
– ты должен забыть все эти ужасы». – «Почему?» – спросил я, удивившись еще сильнее. «А потому, – ответил он, – что иначе ты просто не сможешь жить.» Дядя Флейшман кивнул и добавил: «Жить свободно». На что дядя Штейнер тоже кивнул и, в свою очередь, тоже добавил: «Нельзя начинать новую жизнь с таким грузом». Тут он был в какой-то степени прав, я не мог этого не признать. Вот только я не совсем понимал, почему они хотят от меня невозможного, и я сказал: что случилось, то случилось, не могу же я, в конце концов, приказывать своей памяти. Новую жизнь, считал я, можно было бы начать, только если бы я родился заново или если бы мой разум постигла какая-нибудь болезнь, или увечье, или что-нибудь в этом роде, – надеюсь, они не желают мне ничего подобного? И вообще, добавил я, не заметил, чтобы там были какие-то ужасы, – и тут уже очень удивились, я увидел, они. Как это понимать, хотелось им знать, что значит «не заметил»? Но тогда и я спросил: а что они-то делали в те «трудные времена»? «Как что? Ну… мы жили», – задумался один. «Пытались выжить», – сказал другой. «То есть получается: вы тоже все время делали шаг за шагом», – заметил я. «Что значит: делали шаг за шагом?» – никак не могли уразуметь они, и тогда я рассказал им, как это было, например, в Освенциме. Один железнодорожный состав – не утверждаю, что всегда и обязательно, поскольку тут я не могу судить, – но, по крайней мере, в нашем случае вмещает примерно три тысячи человек. Скажем, мужчин из них – тысяча. Для осмотра кладем на одного человека одну-две секунды; чаще – одну, чем две. Самого первого и самого последнего в расчет не берем, поскольку они никогда не считаются. Но в середине, где стоял и я, ожидание, таким образом, составляет где-то десять—двадцать минут; за это время ты подходишь к точке, где решается: сразу ли газ, или пока что есть еще шансы. Ну, а очередь между тем движется, очередь все приближается, и каждый делает шаг, поменьше или побольше, в соответствии с требованием скорости действия.
Наступила недолгая тишина, которую нарушила лишь тетя Флейшман: она взяла у меня пустую тарелку и унесла ее; больше она не возвращалась.
А старики, Штейнер и Флейшман, спросили: при чем тут это и что я этим хочу сказать? Я ответил: да ничего особенного, просто не все сводится к тому, что что-то «приходит»: мы сами тоже делаем шаги. Это только теперь все видится законченным, готовым, непоправимым, окончательным, невероятно стремительным и ужасающе смутным, таким, каким «пришло»: оно выглядит таким только теперь, задним числом, если мы оглядываемся назад и видим его вроде как с изнанки. Ну и, конечно, если знаем судьбу наперед. Тогда и в самом деле можно принимать в расчет только течение времени. Какой-нибудь дурацкий поцелуй, например, это такая же необходимость, как, скажем, проведенный в бездеятельности день в таможне или газовые камеры. Вот только назад смотри или вперед – и то, и другое взгляд неправильный, рассуждал я. В конце концов, иной раз и двадцать минут, даже если их брать сами по себе, довольно большое время. Ведь каждая минута начинается, продолжается, потом заканчивается – прежде чем начнется следующая. «Так что, – сказал я, – давайте-ка подумаем: каждая такая минута могла бы, собственно, принести что– то новое. На самом деле – не принесла, само собой, но ведь все-таки нельзя не признать, что могла бы принести; в конечном счете в каждую такую минуту могло бы произойти и что-то другое, не то, что в действительности произошло: и в Освенциме, и точно так же, пускай, предположим, дома, когда мы прощались с отцом».