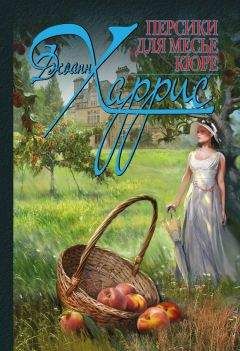— Нравилась? Значит, ты считаешь, что она домой не вернется?
И Дуа снова недоуменно передернула плечиками. Даже не пожала ими, а лишь слегка качнула; это был жест такой же естественный, как мысль, и такой же сложный, как танцевальное па.
— Скажи, почему все-таки Алиса убежала из дома? — спросила я.
Дуа покачала головой и прошептала:
— Моя мама говорит, что она совершила zina.[47]
Мне захотелось спросить, какой грех способен подтолкнуть юную девушку к самоубийству, но я знала: для мусульманской женщины такой грех только один. Зина — слово, которое звучит, словно чье-то имя или, может, название цветка — но такого, который, расцветая, вызывает лишь отвращение, который следует вырвать с корнем еще до того, как он успеет распуститься. Мы с матерью прожили в Танжере не очень долго, но и полугода мне вполне хватило, чтобы понять многое. Мать-одиночка и ее ребенок всегда были там объектом презрения и позора; даже и теперь прав у них нет почти никаких, а уж двадцать лет назад их и вообще не было. Будучи европейками, мы с матерью выступали чем-то вроде исключения. Кое-кто даже с нами здоровался. Впрочем, внешне мы достаточно сильно отличались от местных женщин — да к тому же весьма уважительно относились к их вере — и благодаря этому как-то проскользнули сквозь ячеи плотной сети всеобщего осуждения. Но женщины, которые забыли hayaa — сложное понятие, означающее одновременно и «скромность», и «стыд», — сочувствия в тамошнем обществе почти не находили. Среди знакомых матери было несколько таких незамужних женщин с детьми, отвергнутых собственной семьей и не имевших возможности ни работать, ни требовать социальной защиты хотя бы для своих рожденных вне брака детей. Впрочем, близко познакомиться с этими женщинами ей так и не удалось — слишком глубока была пропасть, нас разделявшая, — но мне все-таки удалось кое-что о них узнать. Одну бросил любовник, обещавший на ней жениться, как только узнал, что она беременна. Другую изнасиловали, причем целая банда молодчиков, которые приговаривали при этом, что она, шлюха, ничего иного и не заслуживает. Мать плакала, слушая эту историю, — а мою мать не так-то легко было заставить плакать; той девочке было всего девятнадцать, когда мы с ней познакомились; она с утра до ночи работала на рыбоконсервном заводе и там же ночевала. Родившийся после того случая ребенок — девочка — умер вскоре после рождения. Но она успела дать дочери имя: Рашилла. Моя мать так и не смогла понять, как вера, которая учит прощать, может быть такой безжалостной и холодной, как стена льда, по отношению к самым бедным и уязвимым членам общества. Нам казалось, что повсюду — в Риме, Париже, Берлине и Праге — мы видели немало проявлений самых нелепых предрассудков, но все это оказалось сущей ерундой по сравнению с Танжером; там обесчещенные, подвергнутые всеобщему остракизму женщины выстраивались в ряд у мечети и просили милостыню, а их добродетельные сестры проходили мимо, не обращая на них внимания, — отводили глаза и прикрывали лицо покрывалом, демонстрируя собственную скромность и непримиримость.
Вот он, настоящий грех, говорила моя мать, когда мы с ней спешили уйти подальше по раскаленным добела улицам, где под безжалостным солнцем пронзительно вопили рыночные торговцы и муэдзины, соперничая друг с другом и требуя к себе внимания прохожих. Да, эти добродетельные женщины совершали настоящий грех, отводя в сторону взгляд и делая рукой короткий, отстраняющий жест. Впрочем, мы и раньше часто видели это — в Париже возле Нотр-Дам и в Риме у ворот Ватикана. И даже здесь, в Ланскне, я всегда узнавала в глазах таких людей, как Каро Клермон, это выражение — презрение, освященное церковью и воспринятое истинно верующими праведниками.
— Кое-кто совершает вещи и похуже, чем зина, — сказала я и сразу почувствовала, что мои слова несколько шокировали Дуа. Решив сменить тему, я спросила: — А у Алисы есть бойфренд?
Дуа кивнула:
— Да, раньше был. Она с ним по Интернету общалась. Но потом отец отобрал у нее компьютер. И я тогда разрешила ей пользоваться моим — она им и пользовалась, пока здесь не случился пожар.
— Ах вот как… ясно.
Значит, дружба по Интернету. У Анук нет компьютера. В Париже она часами сидит в интернет-кафе на бульваре Сен-Мишель и болтает с друзьями — чаще всего с Жаном-Лу, которому приходится использовать виртуальные средства общения, чтобы хоть как-то компенсировать слишком частое пребывание в больнице.
— А в реальной-то жизни она с ним знакома? Может, он и сам из Ланскне?
И снова Дуа кивнула в знак согласия:
— Может быть. Мне тоже так кажется. Но она никогда не говорила, откуда он.
— Понятно.
И я вдруг действительно все сразу поняла. Это общение по Интернету объясняло все. Игру в футбол на площади; кофейные утренники у Каро Клермон, которые так внезапно закончились, и разочарованность самой Каро, связанную с арабской общиной, и тот холод, который возник в отношениях между жителями самого Ланскне и бульвара Пти Багдад.
В мире Каро терпимость, «толерантность», означает, что она читает правильные газеты, время от времени употребляет в пищу кускус и называет себя «либералкой». Однако она никогда бы не позволила собственному сыну влюбиться в какую-то maghrebine. Что же касается Саида Маджуби, которого обитатели Маро воспринимают как своего духовного лидера и наставника, то это человек настолько ограниченный рамками своей веры и традиций…
Ладно. Я решила уйти и позволить детям спокойно забавляться со щенками. Дети, как ни странно, готовы очень многое принять благосклонно. Даже дети Ашрона существуют, не попадая под мертвящий луч предрассудков, столь свойственных их родителям. Детям не требуется много времени, чтобы совершенно забыть о существующих между ними различиях. Картонная коробка со щенками, тайное убежище в заброшенном доме. Если бы и для нас, взрослых, мир был столь же прост! Но мы обладаем порой прямо-таки сверхъестественной способностью фокусировать свое внимание именно на различиях; такое ощущение, будто мы, исключая из своего общества других, тем самым укрепляем собственное чувство идентичности. Но за время наших с матерью странствий я успела понять, что люди повсюду примерно одинаковы. Под покрывалом, бородой, сутаной всегда действует один и тот же механизм. И в наших поступках — моих и моей матери, хотя она-то верила, что это не так, — не было никакой магии. Просто мы способны видеть несколько дальше других, способны заглянуть за пределы того хаоса, который создан видением других. Мы видим цвета человеческой души. Цвета сердца.
Когда я вышла на улицу, дождь по-прежнему лил как из ведра. Крупные капли с такой силой ударялись о мокрую землю, что брызги отскакивали в разные стороны, как искры петарды. Но теперь я уже знала, что нужно делать. По-моему, я знала это с самого начала. С самого первого дня здесь, когда я увидела ее, неподвижно стоявшую на солнце, по самые глаза закутанную в покрывало и, точно василиск, наблюдавшую за толпой.
Я вытащила мобильник и позвонила — нет, на этот раз не Ру, а Ги, своему поставщику, и заказала все необходимое для изготовления шоколада. Правда, на этот раз заказ был весьма скромен: всего пара ящиков шоколадной глазури и кое-какая необходимая утварь. Но недаром моя мать всегда говорила: в иные дни действует только магия. Нет, это, конечно, не настоящая, высокая магия, ею мы и не владеем, но именно самая простая, домашняя, магия и требовалась в тот момент.
И я снова устремилась под проливным дождем на поиски Инес Беншарки.
Вторник, 24 августа
На улицах Маро не было ни души. Черный Отан вырвался на свободу и набирал силу. Серое небо приобрело красноватый оттенок, и на его фоне капли дождя казались почти черными. Те немногие птицы, что осмелились бросить ветру вызов, не выдерживали натиска и отступали; их сносило, как газетные листы, прямо на баррикады клонившихся под ветром деревьев, росших вдоль берега реки. В воздухе чувствовался запах морской соли, хотя до моря часа два езды, и было очень тепло, несмотря на дождь и ветер; однако этот влажный, насыщенный молочно-белым туманом теплый воздух был неприятен и словно насыщен гнилостными испарениями. И меня не покидало ощущение, что за каждым окном, за каждыми ставнями кто-то наблюдает за мной, — это было очень знакомое, даже слишком знакомое чувство, помнившееся мне по многим иным местам, встречавшимся на пути.
Здесь, в Ланскне, люди очень настороженно относятся к чужакам. Это я хорошо знала. Детей предупреждают, чтобы они ни в коем случае не разговаривали с чужими. То, как мы одеваемся, иная манера говорить, даже еда, которую мы предпочитаем, — все это отличает нас от здешних жителей, делает иными, а значит, потенциально враждебными, опасными. Я помню, как в первый наш приезд в Ланскне повела Анук в школу — господи, как же смотрели на нас обеих мамаши, буквально впиваясь глазами в каждую мелочь, которая отличала нас от них! Разумеется, в первую очередь в глаза им бросилась наша чересчур яркая одежда; затем — наш магазин напротив церкви; затем — наличие у меня ребенка при отсутствии на пальце обручального кольца. Теперь-то я стала здесь почти своей. Если не считать Маро, разумеется, — там буквально через каждый сантиметр пространства словно натянуто невидимое проволочное заграждение, о которое ничего не стоит споткнуться — и тогда сразу же нарушишь тот или иной закон или невольно пересечешь некую границу.