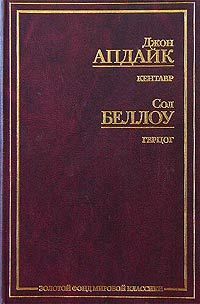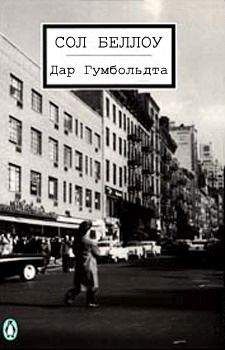— Ты дал привлекательный портрет, — сказала Рамона.
— Мы очень возвышенно жили, все трое. Кроме Фебы. Та просто коптила небо.
— Что она собой представляет?
— У нее красивое лицо, но выражение злое. Ее амплуа — старшая медсестра.
— Тобой она не занималась?
— У нее был муж-инвалид… Он с этого снимает пенки, берет рыдающим пафосом. Она дешево купила его — бракованный экземпляр. Новенький и исправный ей был бы не по карману. Он это знал, и она знала, и мы. Нынче все такие проницательные. Любой образованный человек осведомлен в законах психологии. Но хотя он был всего-навсего диктором при одной ноге, она его ни с кем не делила. А тут явились мы с Маделин, и в Людевилле началась развеселая жизнь.
— Так ее, наверно, огорчало, когда он стал тебе подражать.
— Конечно. Но чтобы меня обмануть, нужно было действовать в моем собственном стиле. Идеальная справедливость. Преклонение перед философией лежит в основе этого стиля.
— Когда ты впервые заметил?
— Когда Мади стала отлучаться из Людевилля. Несколько раз отсиживалась в Бостоне. Говорила, что ей просто нужно побыть одной, все обдумать. Забирала с собой девочку — совсем крошку. И я просил Валентайна съездить и урезонить ее.
— Тогда он и начал читать тебе нотации?
Герцог попытался улыбкой сдержать хлещущее злопамятство — все-таки они тронули этот кран. Управляться с ним ему трудно. — Они все читали нотации. Каждый приобщился. Люди постоянно навязывают свою волю посредством беседы. У меня есть письма Маделин из Бостона. Есть письма от Герсбаха. Богатый архив. Даже есть пачка писем Маделин к ее матери. Я их получил бандеролью.
— А что писала Маделин?
— Она знатная писательница. Прямо леди Хестер Станоп(Люси Хестер Станоп (1776–1839), покинув в 1810 году мужа, вторую половину жизни провела в Ливане. Интересовалась оккультизмом, оставила эпистолярное наследие). Она перво-наперво объявила, что во многих отношениях я напоминаю ей отца. Будто бы в одной комнате со мной ей нечем дышать: весь воздух заглатываю я один. Что я инфантильный, сардонический деспот и психосоматический шантажист.
— Это еще что такое?
— Я обзавелся болями в животе, чтобы помыкать ею, и добивался своего, хворая. Они это в один голос говорили— все трое. У Маделин была еще одна тема: краеугольный камень брака. Брак есть нежный союз, родившийся от переизбытка чувства, — и прочее в этом роде. У нее даже были соображения, как правильно совершать супружеский акт.
— Бесподобно.
— Должно быть, осмысливала уроки Герсбаха.
— Слушай, не углубляйся, — сказала Рамона. — Воображаю, как она старалась побольнее уколоть.
— Между тем мне полагалось завершить свой ученый труд и сделаться новейшим изданием Лавджоя (Артур Онкен Лавджой (1873–1962) — американский философ; много занимался проблемами романтизма) — это академический треп, Рамона, сам я так не считал. И чем больше нотаций выслушивал я от Маделин и Герсбаха, тем убежденнее уповал на спокойную, размеренную жизнь. А для нее этот покой означал мои очередные козни. Она инкриминировала мне «овечью шкуру», сказала, что теперь я прибираю ее к рукам, изменив тактику.
— Поразительно! В чем конкретно ты подозревался?
— Она считала, что я женился на ней ради собственного «спасения», а теперь хочу ее убить, поскольку она не справляется со своей задачей. Говорила, что любит меня, но фантастических моих требований выполнить не в силах и потому опять уезжает в Бостон все обдумать и поискать, как спасти наш брак.
— Понятно.
— Примерно через неделю пришел Герсбах за ее вещами. Она ему звонила из Бостона. Понадобилось что-то из одежды. И деньги. Мы с ним совершили большую лесную прогулку. Начало осени: солнце, пыль — дивно… и грустно. Я помогал ему пройти в трудных местах. Из-за ноги он колыхается при ходьбе…
— Ты говорил. Похоже на гондольера. А что он тебе сказал?
— Сказал, что эта херня не укладывается в его голове, он не представляет, как переживет разлад между любимейшими на свете людьми. Еще и скрепил: которые ему дороже жены и собственного ребенка. Он буквально распадается на части. Рушится его мировоззрение.
Рамона рассмеялась, Герцог ее поддержал.
— Потом что было?
— Потом? — сказал Герцог. Он вспомнил трясучку сильного кирпичного лица Герсбаха, поражавшего мясницкой грубостью, пока вам не приоткроется вся глубина его тонких чувств. — Потом вернулись домой, и Герсбах собрал ее вещи. И взял то, ради чего, собственно, приходил, — ее колпачок.
— Шутишь!
— Серьезно.
— Ты так спокойно признаешь…
— Я спокойно признаю одно: что мой идиотизм развратил и извратил их окончательно.
— Ты не спросил ее, что все это значило?
— Спросил. Она сказала, что я утратил право требовать у нее отчета. Что выказываю все то же свое качество: ограниченность. Тогда я спросил, не стал ли уже Валентайн ее любовником.
— Что же она ответила? — Рамона просто сгорала от интереса.
— Что я не оценил даров Герсбаха — как он меня любит, как относится ко мне. Я говорю — Он же взял из аптечки эту штуку. — Взял, — говорит, — а еще он ночует у нас с Джун, когда приезжает в Бостон, но он мне вместо брата, которого у меня нет, только и всего. — Меня это не очень убедило, и тогда она говорит: — Не дури, Мозес. Ты же знаешь, какой он примитив. Абсолютно не мой тип. Между нами совершенно другого рода близость. Когда в Бостоне он пользуется туалетом, в квартирке не продохнуть. Я знаю, как пахнет его дерьмо. Неужели ты думаешь, что я могу отдаться человеку с таким вонючим дерьмом? — Вот такой она мне дала ответ.
— Как это страшно, Мозес! Неужели так и сказала? Странная женщина. Очень странное существо.
— Это только значит, как много мы знаем друг о друге, Рамона. Маделин была не просто женой: она была воспитательницей. Положительному, уравновешенному, подающему надежды, думающему, старательному недорослю вроде Герцога, с понятием о достоинстве, полагающему, что человеческая жизнь, как и все прочее, суть научная дисциплина, — такому надо преподать урок. И если для кого-то достоинство, старомодное чувство собственного достоинства, не пустой звук, то ему, конечно, достанется на орехи. Может быть, достоинство импортировали из Франции. Людовик XIV. Театр. Власть. Авторитет. Гнев. Прощение. Majeste (Величие (франц.)). Плебей, буржуа был обязан наследовать его. Сейчас это все музейная редкость.
— Мне казалось, сама Маделин всегда так дорожила собственным достоинством.
— Не всегда. Она могла и поступиться своими притязаниями. К тому же, не забывай, что Валентайн тоже незаурядная личность.
Современное сознание вообще требует встряски своих основоположений. Оно вещает истину о человеческой твари. Оно мешает с дерьмом все притязания и вымыслы. Такой человек, как Герсбах, может быть весельчаком. Простаком. Садистом. Человеком без тормозов. Без руля и без ветрил. Без сердца. Может душить друзей в объятиях. Нести околесицу. Смеяться шуткам. И может быть глубоким. Восклицать: «Я люблю тебя!» Или: «В это я верю!» И вполне расчувствовавшись, запудрить тебе мозги. Он творит непостижимую реальность. Скорее радиоастрономия скажет, что происходит в десяти миллионах световых лет от нас, чем удастся разгадать головоломки Герсбаха.
— Ты слишком заводишься на эту тему, — сказала Рамона. — Мой совет: забудь ты о них. Сколько продолжался этот идиотизм?
— Годы. Во всяком случае, несколько лет. Они распоряжались моей жизнью, кроме всего прочего. О чем я даже не подозревал. Они все за меня решили: где мне жить, где работать, сколько платить аренды. Они даже поставили передо мной духовные проблемы. Усадили делать уроки. А когда надумали избавиться от меня, то разработали все в деталях— имущественное распоряжение, алименты, обеспечение ребенка. Валентайн, я убежден, считал, что действует исключительно в моих интересах. Он наверняка сдерживал Маделин. Ведь он в своих глазах хороший человек. Он с понятием, а такие больше страдают. Они чувствуют больше ответственности — выстраданной ответственности. Я не сумел, простофиля, позаботиться о жене. Тогда он сам о ней позаботился. Я не способен воспитать собственную дочь. Тогда он вынужден сделать это вместо меня — из дружбы, из жалости, по широте душевной. Он даже соглашается со мной, что Маделин психопатка.
— Не разыгрывай меня.
— Я правду говорю. «Сучара бешеная, — его слова, — я, говорит, сердцем изболелся за эту малахольную».
— Тоже, выходит, загадочный тип. Ну и парочка! — сказала она.
— Еще бы не загадочный, — сказал Герцог.
— Мозес, — сказала Рамона, — давай кончим этот разговор, честное слово. Что-то ненужное в этом… Нам с тобой ненужное. Давай кончим…
— Ты еще не все слышала. Существует письмо Джералдин — как они обращаются с ребенком.