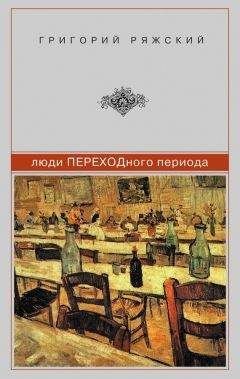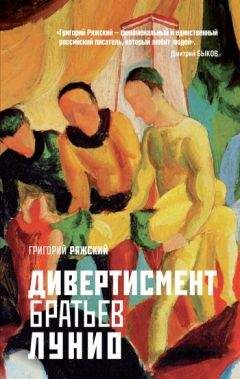— Гарантию сам себе выбирай, — отвечает он не моргая. — Иль со мной, иль с Гамлетом, вот и прикидывай, Сохатый, при ком тебе канифолить дольше останется.
— Ладно, тогда мне нужна слепая ночь, — говорю, — скажу заранее, чтоб никого в отряде, иначе облом. Сделаешь?
— Не вопрос, — отвечает кум, снова не моргнув. — Готовь реквизит и всё такое. А в чём нехватка обнаружится, поможем, не дрейфь. Ну, и с народом отработай, слова скажи про светлое завтра, заручись помощниками, сроку дня три, думаю, хватит. Дальше — труба. Свободен!
Такой был у нас с ним базар. В смысле, у него с Сохатым. Хотя Сохатый сам по себе знать ничего не знал, близнячик мой неприкаянный, потому как теперь вся братская диспозиция поменялась уже с ног на голову, и кто был никем в паре с тухлым самоучителем дурного языка, тот стал всем. И — наоборот. Только безголовый этот разговорник остался при том, кому был теперь нужней. Такая, браты мои, мерихлюндия.
Трое отпущенных суток только-только хватило, чтобы провести разъяснительную работу промеж местных серединных. С каждым потолковал отдельно, со всей строгой внимательностью и правильными глазами. Сказал, власть на зоне меняется, друганы, верхних будем сбрасывать, а вас — ставить на их насиженные авторитетные места. Действовать станем бодро, но жёстко. Ну а насчёт орудия подавления личности подсказал мой братка, Сохатый, которого теперь никто уже за него не держал. Для зоны он сделался Паштетом, как и для меня и для него же самого. Всё произошло тик-так, на основе мирного обмена одной братской натуры на другую, включая характер, темперамент, любовь и ненависть, терпимость и веру, надежды на обустройство несовершенного мира, изобретательность, чутьё, харизму, тягу к латыни и, само собой, оригинальное погоняло.
Так вот, говорит, чего нам велосипед изобретать, нужно просто разобрать железные шконки, как на малолетке, и в слепую ночь заявиться к ним в отряд. Начать с углового, остальных — под железный прицел и сразу же переключаться на Черепа. Но только, сказал, прошу тебя, без увечий, чисто пугнуть и мягко скинуть с пьедестала. У нас же с тобой в этом смысле имеется добрый опыт, для чего нам лишнего городить и другое зло вокруг себя насаждать?
И снова прозвучало разумней некуда. Кроме одного — версии насчёт финала экзекуции. Впрочем, эту часть я с братухой обсуждать не стал — мотнул согласной головой и двинулся в народ.
А когда истекли третьи сутки и едва засве́тлились четвёртые, мы уже неслышным гуськом втекали в их отряд. Скручивать и затыкать пасть по пути никому не пришлось, в эту ночь нам честно служила власть, убрав все мыслимые препятствия на пути своих подлых завоеваний. Зайдя внутрь, мы рассыпались невидной це́почкой, опоясав все подходы и отходы к барским углам, где размещались верхние. У окна, задёрнутый цветастой занавеской, размещался сам он, Гамлет, Верховный. Он похрапывал у себя на двойном матрасе, издавая мягкие звуки, резонирующие с его большой черепной коробкой. Но для начала мы взяли углового, который даже пикнуть не успел никаким вообще звуком. Его просто вжали в подушку и навалились сверху, перекрыв любое движение организму. Последующий короткий стон был тут же пресечён мощным ударом локтевого сгиба в левую почку, и дальше в этом углу уже была нормальная тишина.
Затем разом разбудили основную свору, их было штук семь, кто при Черепе капитально отирался, все блатные, все авторитетные зэки со стажем, но каждый со своей гнильцой, как выяснилось уже потом. Те прохлопались зенками, но, засекши нацеленные в них кроватные штыки, тут же увяли и замерли. В эту тревожную минуту им лихорадило только внутренность, наружность же оставалась тихой и неподвижной. Чего они при этом думали, мне было по барабану, слишком высока была ставка, отступать было некуда, за нами щитом стояла вся оставшаяся жизнь, перед нами серой пропастью висела роковая неизвестность.
Я резким движением отдёрнул занавеску, что скрывала за собой Гамлета, и воткнул ему в лицо световой луч от фонарика из кумовского реквизита. Остальные мои подручные, кто тоже имел при себе хозяйские фонари, сделали то же самое, каждый ослепив своего врага напротив. Все же прочие, кто оказался разбуженным нашим воинственным нашествием, выжидали. Именно таким планировал ход событий мой дальновидный брательник: всё равным образом напоминало историю захвата власти в малолетней колонии. И теперь мне казалось, что те же самые пацаны просто выросли и ушли сюда, на взросляк, и всё вернулось на круги своя. Они ждали молча, не предпринимая попытки встать ни на какую сторону. Так было и будет всегда, подумал я в ту минуту: одни будут действовать и рисковать, другие — выжидать, чтобы присоединиться к победителю и сделаться его малой послушной частью.
Гамлет тряхнул головой и уставился на меня.
— Кто? — глухо спросил он. — Чо надо, падло?
Я выдернул из шкар заточку и поднёс её к его небритому горлу.
— Это я, Сохатый, и я пришёл забрать у тебя власть. И не я падло, а ты, Череп, и я это тебе сейчас продемонстрирую. — Не оборачиваясь, я негромко обратился к народу, тамошнему, отрядскому, кто вольно наблюдал за расправой и позором ихнего верховного: — Обиженные имеются? — Никто не отозвался. Я повторил вопрос, добавив голосу естественной суровости: — Я сказал, кто обиженный, ко мне, быстро. Или будет совсем нехорошо.
Откуда-то послышалось движение, хмырь у самого входа оторвался от матраса и суетливой походкой приблизился ко мне.
— Погоняло? — строго спросил я, не оборачиваясь.
— Гуня, — отозвался петушок.
— Целуй его в губы, Гуня, — негромко приказал я хмырю, — живенько.
Возникла пауза. Смертная, в натуре, без бэ. Воздух, что наполнял собой помещение отряда, внезапно словно загустел и сделался вязким. Ночь за зарешёченным окном, хотя и сентябрьская, ещё не чёрная и не слишком глубокая, тоже, казалось, остановилась в своём поступательном движении в сторону лагерного утра и сделалась мёртвой и непроходимой для любых видов жизни. Я ненавидел этот сентябрь с самого детства. И не только потому, что кончалось лето и надо было снова двигать в опостылевшую школу, чтобы набивать себе голову всякой очередной ненужной хернёй. Просто именно в этот месяц я ежегодно терял надежды на скорое освобождение от сдавливающих мою вольную душу тисков. До весны, до лета, до следующей тёплой воли снова было так далеко, что вся моя свободолюбивая внутренность сопротивлялась этой перемене, не желая терпеть столько для того, чтобы вновь ввергнуть себя в состояние беззаботной и не подвластной никаким учителям другой свободы.
— Ты труп, — негромко произнёс Череп, — ты даже сам ещё не понимаешь, какой из тебя получится красивый труп, — добавил он, свесив босые ноги с кровати и уперев их в дощатый пол. — Я самолично сперва лезгинку на твоей тушке спляшу, а после разберу на запчасти и отдам собакам. Но сперва ты узнаешь, что такое больно, Сохатый, очень больно, так больно, что пожалеешь, что мама родила тебя на эту землю.
— Соси его в губу, Гуня, — пропустив мимо ушей слова Гамлета, кивнул я хмырю. — Считаю до двух. Раз… — Двое моих людей резко выдались вперёд, заломили Черепу руки и швырнули его на спину, придавив грудь коленями. Третий грубо обхватил голову руками и тоже накрепко прижал её к матрасу, придав Черепу полную неподвижность. — Два…
Хмырь подступил к смотрящему, оглянулся назад, ища последней выручки из возможных, но всё же нагнулся и осторожно коснулся губами его губ. Гамлет взревел и начал биться в истерике, ревя и брыкаясь, как умалишённый. Он уже знал, что это конец, чего бы он ни говорил, кого бы ни пугал и как бы бешено ни вращал белками своих армянских маслин.
Я обернулся и дал отмашку. В этот же момент заработали кроватные стойки и перекладины. Опускаясь и вновь взмывая над шконками семерых приговорённых, они беспощадно молотили их тела, круша на своём пути всё, что попадало под железный удар: рёбра, животы, ноги, головы, спины. Те извивались, но отступать было некуда, как негде было и укрыться от нещадно обрушивающихся на них страшных ударов. Им оставалось лишь, прикрывая жизненно важные органы, ждать финала экзекуции, моля Всевышнего, чтобы эти новые не поубивали их до смерти.
— Пшёл, — коротко кивнул я хмырю, и тот исчез со скоростью ночной кометы. — Ну всё, Череп, время твоё истекло, будем прощаться, — с этими словами я вновь поднёс заточку к горлу своей будущей жертвы и стал медленно ввинчивать её вовнутрь мягкого промежутка между нижней скулой и кадыком. Я вдавливал и ждал. Гамлет, скрученный моими людьми, молчал, даже не пытаясь произнести сло́ва. Свет от фонарика продолжал бить в его бешеные глаза, он сопел носом, ноздри его широко раздувались, и оттуда выбрасывалось на постель что-то мокрое. Он едва слышно бормотал что-то про себя на своём дикарском языке, но не просил пощады. Именно это меня и разозлило до такой степени, что я решил сократить время смерти моего врага. Мне оставалось лишь резко вжать заточку, так, чтобы она вышла с другой стороны. На этом всё уже было бы закончено, совсем. Пальцы мои судорожно сжали рукоять, я невольно напряг бицепс и… в этот момент сзади на меня обрушился братан, мой Петька, Сохатый, ненароком ставший Паштетом. Он обхватил мои руки своими сухими сильнющими граблями, сцепив их замком, и изо всех сил прижал их к моему туловищу.