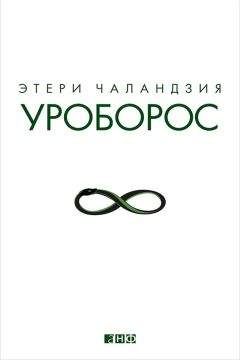Альберт всхлипнул. Егор стоял, забившись в угол. Он боялся слово произнести.
— Я все время, каждый день думал о своей вине. Но я ничего не мог поделать. Ничего. Я мог винить себя бесконечно, но я не этого хотел. Я хотел опять почувствовать себя живым, легким и свободным. Я хотел, чтобы и Лиля, свободная и веселая, была рядом. Чтобы все было не позади, а впереди, только начиналось, звало, манило. И я понял, я понял, что все это можно повторить, можно вернуть и вернуться, надо только… надо… было кое-что изменить… Изменить, понимаешь?
Он всхлипнул.
— Да, я обманул. Предал. Но ведь все же было хорошо! Как будто я был прав. Как будто заслужил все это. Я был на седьмом небе, думал, ну, раз так все складно, значит, все правильно? У меня все спорилось, я летал, я даже Лилю опять любил, как когда-то, как вначале. Она молчала, смотрела внимательно, но я не видел, не хотел видеть, я ничего лишнего тогда не хотел.
Альберт завыл. Завыл, как животное, ударился головой о холодильник. Внутри что-то посыпалось, покатилось и пролилось.
— А ведь нет никакого ребенка. Эта сучка все выдумала. Нашла Лилю, подкараулила, подловила, рассказала, что хотела. А потом не выдержала. Пришла ко мне, плакала, винилась. Кто она? Зачем она вообще была нужна? Я не помню ее. Ни запаха, ни лица, ни голоса, вообще ничего. Зачем она появилась? Чтобы все сломать и испортить? Чтобы меня проверить? Но меня не надо было проверять. Я и был предателем. Для меня измена ничего не значила. И что вышло…
Его голос сорвался в крик.
— Егор! Она ушла. Ушла. Ничего не сказала. Ни слова. Нет ее. И ничего нет. Нет мира, который она надышала. Который я ненавидел, частью которого я сам был. Куда мне теперь? Кто я без нее? Без них?
Егор не знал, что делать. Здесь нельзя было ни помочь, ни отвлечь. В этом крике, водке, шпротах, пепле и слезах не было никакого величия. Человек бился и корчился в грязных схватках то ли рождения, то ли умирания. И больше не оставалось времени, и лица сидевших на той кухне казались полустертыми. Не было ни начала, ни конца тому разговору. Он вообще никогда не прерывался, он длился вечность по всем темным и пустым углам человеческих жизней.
Он сделал усилие, заставил себя подойти к другу, вынуть из рук стакан, вывести с кухни. Надо было проводить до кровати, уложить. Сесть рядом.
В коридоре Альберт вырвался, метнулся в сторону, ударился в стену, с грохотом упала их с Лилей фотография под стеклом. Стекло разбилось.
— Они ведьмы, — Альберт тяжело дышал перегаром, и его глаза были безумны. — Берегись. Слышишь. Спасайся. Они ведьмы. Они все знают. Самые глупые из них знают что-то, что нам никогда не понять, сколько бы мы ни пыжились, сколько бы ни вникали. А мы и не пыжимся. Мы кто? Животные. У нас член бежит впереди нас. И совесть легкая и пустая. Мы думаем, что эта жизнь — наша. Что они там что-то пищат, выцарапывают себе свои свободки. Но это так, для отвода глаз. Я тебе говорю. Они давно имеют всех нас с потрохами, со всеми нашими делишками и желаньицами. Они хитрее, чем мы думали. Это они владеют миром и позволяют нам думать, что это мы тут что-то значим. Они всех нас родили, они с нами всеми нянчатся. Пока им не надоест. А если надоест, то нам всем конец. Они сами похоронят нас. Зароют, закопают, плитой без имени придавят сверху. Егор, я тебе говорю, Бог — мстительная баба. Мы все в ее руках, и мы…
Он зацепился, споткнулся о невидимое препятствие и упал в постель. Егор не мог поручиться, живой ли сон сразил друга. Он прислушивался к дыханию, пока ему самому позволяли силы. Убедившись, что Альберт тяжело, но ровно дышит, Егор осел на колени, лег на пол. Подложил какой-то ком одежды под голову и забылся, задрожал тяжелым сном.
Он как будто целый вечер сам с собой говорил. Как будто с Лилей и правда что-то случилось. Как будто жизнь дала течь, и Ноев ковчег стремительно, с шипением и треском, шел ко дну.
* * *
Огромная луна выкатилась на черное небо. Нина открыла окно и стояла, вдыхая морозный воздух. Они так делали в детстве, когда хотели заболеть и наутро не идти в школу. Но сейчас бесполезно было хитрить и уворачиваться от контрольной. Она выдохнула горячий воздух в ночную тьму. Ее сердце болело. Но не из-за Егора, а оттого, что было пусто. В нем больше не было любви.
Они хотели наказать друг друга. Теперь все зависело от того, кто кому первым воткнет нож в спину. Нина знала, что Егор не будет просить прощения. Он не будет раскаиваться и виниться потому, что она ждетэтого. А она не простит его. Они стояли в холодном и пустом поле, ветер трепал их одежду, вокруг было серо и тускло. И мир был голым и злым. Не было больше ни любви, ни тепла, ни света. Оставалась последняя схватка злого со злым. Кто в ней мог победить?
* * *
Утром, пока Альберт еще то ли спал, то ли лежал в обмороке, Егор вызвонил его сестру и мать, вскоре женщины с тихим кудахтаньем захватили дом, принялись наводить порядок, готовить еду, заваривать кофе. Детей нашли, перезвонила какая-то подруга Лили. О ней самой никаких вестей не было. Егор уехал. Он ничем не мог помочь, но хотя бы был уверен, что оставляет Альберта под присмотром.
Целый день Егор названивал Нине, и целый день она не подходила к телефону. Чувствовал: Нина что-то знает про Лилю, не может не знать. По-хозяйски протянул руку, чтобы получить то, что хотел, а в ответ в его руку легла фига. Нина сделала козу и ушла от повиновения.
Он видел ее насквозь и не доверял ни минуты. Черный улей смертоносных пчел. Ни одного звонка за все время его отсутствия, ни одного сообщения. Это та, вторая в отчаянии обрывала провода. Но она ему была больше не нужна. Егор знал, что Нина играет с ним. Ищет удобный момент. Ей нужно было, чтобы он пал. Признался. Покаялся. Чтобы вся его вина, как кровь, вышла наружу. И тогда она растоптала бы его, добила и пошла бы дальше, сморкаясь в это его покаяние. Он не мог этого допустить.
Нет, Нина, ты что-то перепутала, это тебесейчас прощение вымаливать надо. В пыли ползти, из кожи вон лезть, переступить через саму себя, приехать в дом к любовнице поменять простыни на постели и с улыбкой утереть лицо, после того как в тебя плюнут и назовут тряпкой. Здесь больше нет ничего невозможного, ничего, что подчинялось бы твоим правилам. Ты должна вывернуться, показать, как ты тиха, мила, умна, нежна и покорна. Что ты лучше всех. Что ты будешь лучше всех, чтобы заслужить право быть рядом. Неважно, воспользуется он этим или нет, но партия должна быть за ним.
Или она думала, что у него что-то екнет от ее печалей? Любовница… Большое дело! Как будто она первая женщина на земле. Тоже мне, беда. Горе. Да чтобы он сейчас что-то к ней почувствовал, Нину должно было разорвать на его глазах. Она должна была истечь мочой и гноем, а не этими своими дешевыми слезками. Она что, надеялась его запугать? Вынудить к чему-то своим молчанием? Думала, он дрогнет? Приползет? Черта с два! Теперь он все сделает, чтобы она высохла, выдохлась, свалилась, как загнанная кобыла, чтобы никогда больше у нее не возникло даже сомнения в том, кто тут главный. Она будет молить о пощаде, а он — мочиться на нее. И Егор был уверен, ему будет хорошо.
Но к телефону эта сука так и не подошла.
* * *
Звонки, звонки сопровождали каждое ее движение. Нина тонула в новозеландском холодном белом, и ей было хорошо. Эти звонки были криком, озвученным поражением, его отчаянием и злостью. Наступил вечер, она не стала включать свет и так и сидела на полу в темноте, в своей чисто убранной квартире, пила вино, посматривала в тихо работавший телевизор. Вскоре начались звонки в дверь.
Ну уж нет, она даже не дернулась, даже ухом не повела. Все, друг, вышло твое время. Сейчас для того, чтобы она простила его, он должен был умереть. Но она знала, что этого не случится, поэтому и не собиралась прощать.
Она даже испытала легкое разочарование, когда звонки прекратились. По ту сторону двери был не Егор, там колотилось зло, тщетно пытавшееся дотянуться до нее. Но было поздно. Ее темная комната захлопнулась, как мышеловка, и он оказался внутри нее. Она ускользнула. Ему из ловушки было ее не достать.
И он ушел, бессильно пнув ногой дверь. Когда они не могли дотянуться до живого, они били в стены, в двери, в препятствия. Нина инстинктивно вздрогнула и расплылась в улыбке. Ночь еще только начиналась, и вина у нее было в избытке.
* * *
Впервые за долгое время Егор напился от бешенства. Он с такой силой вливал в себя стопки водки, словно хотел загасить пламя, разгоревшееся внутри. Но водка была хуже пороха, и злость разгоралась все сильней. Его не волновало, прав он или нет. Он чувствовал, что заслужил и выстрадал каждый грамм своей ненависти, каждую крупицу проклятья.
Он ударил рюмкой в стол. Зачем она верила в его добродетель? Зачем доверяла? Она же знала, что предательство у него в крови. Он неловко двинулся, и ногу пронзила острая боль. Тварь! Ведь он пошел навстречу, женился, покорился, добровольно отдал вожжи. Нина что, правда думала, что он это сделал, потому что онаэтого хотела? Он это сделал, потому что самэтого хотел. Потому что надеялся, что, если он — безнадежное животное, не созданное для дома, семьи и этого треклятого простого человеческого счастья, живущее на зубах, на нервах, на похоти и чувстве долга, то, возможно, все повернется иначе, если у руля встанет она. Она и встала. Оборотень. Комнатный воин. Победительница. Что она выиграла, кроме мутной печатки в документах? Она не понимала, что такое победа. С нее было довольно и победки. Она обманула его. Обманула, потому что вселила надежду. Он поверил ей, поверил, что может быть иначе, не как у всех, особенно, по-другому. А измена, любовница… Она слишком большое значение предавала всему этому. Гораздо большее, чем он сам.