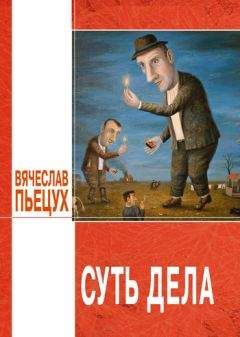Так вот я снова принялся за перо. Поскольку сидеть на шее у родителей не приходилось, я устроился вахтером в один научно-исследовательский институт, каких у нас в то время было великое множество и где народ, главным образом, перекуривал на лестничных площадках и часами играл в пинг-понг. В середине дня я шел обедать в нашу институтскую столовую, однако по бедности мог себе позволить только две порции винегрета по семь копеек и одно яблоко на десерт. Воротившись домой, я съедал тазик щей и ложился спать.
Собственно жизнь, именно нечто в корне отличное от существования земляного червяка, который в поисках пропитания тоже совершает некий объем работ, начиналась у меня около полуночи, когда я просыпался и, заварив себе кружку крепчайшего чая, садился за маленький стол, больше похожий на табурет. Нашу с родителями комнату мы давным-давно поделили огромным платяным шкафом на две неравные части, меньшая из которых была моей; за шкафом, сзади оклеенным разными дурацкими плакатами, стоял мой диван, этажерка со словарями, стул, чуть больше детского, и упомянутый миниатюрный столик с ночником, который давал приглушенный свет и нездорово действовал на глаза.
Итак, около полуночи я устраивался за шкафом на своем рабочем месте, клал перед собой стопку писчей бумаги и принимался за чай, почти такой же горько-наваристый, как чифирь. Некоторое время я тупо разглядывал какой-нибудь из плакатов, а мысли мои витали далече и черт-те где. Однако вскоре меня начинал одолевать какой-то нервный зуд, казалось, будто что-то чешется внутри черепной коробки и открывалось такое сердцебиение, что чудилось, ретивóе вот-вот выскочит через рот.
После наступало что-то вроде прострации, я весь погружался в работу и терял ощущение времени, не обращал внимания на противное шуршание, производимое нашими неистребимыми тараканами, и не слышал, как с присвистом храпит мать; отец почему-то никогда не храпел, но раза три-четыре за ночь хаживал в туалет. Иногда на меня нападало странное, но приятное ощущение: я чувствовал себя чем-то вроде часового в ночном дозоре – вот, дескать, вся держава дрыхнет, поджавши ноги, и только ты один мыслишь за нацию и страну.
Я тогда сочинял серию небольших рассказов из простонародного быта, немного под Зощенко, немного под раннего Чехова, немного под позднего Казакова, но в общем, как это ни удивительно, выходило непохоже ни на кого. В моих рассказах страдали и безобразничали летчики сельскохозяйственной авиации, корреспонденты глубоко провинциальных газет, мыслящие дворники, огорченные интеллигенты, упертые механизаторы и обманутые мужья. Особенно долго и мучительно я возился с повествованием про то, как один деревенский мужик, от которого жена ушла к соседу, с горя надумал прорыть потайную сапу,[20] то есть тоннель, под дом своего разлучника, заложить в нужном месте несколько брикетов тротила, украденного у геологов, и подорвать, к чертовой матери, молодых. Однако, пока суд да дело, обманутый муж так увлекся земляными работами, что решил построить в деревне свое метро и, таким образом, облагодетельствовать односельчан, тем более что в межсезонье тут никакому транспорту проезда не было, включая гужевой, и выйти из дома нельзя было даже в резиновых сапогах. Первую станцию мой герой заранее назвал «Пенаты», вторую «Сельсовет», конечную – «Вот и все». Мораль этого сочинения заключалась в том, что вот, дескать, как положительный труд меняет психологию человека, превращая его из хладнокровного убийцы в полезного чудака.
Но если с фабулой и сюжетом дела у меня обстояли более или менее благополучно, поскольку это от Бога, то сущие муки я претерпел, сочиняя диалоги, которым надлежало характеризовать персонаж с определенной стороны и одновременно оживлять текст примерно на тот манер, как это делают цирковые клоуны в паузе между акробатами и слоном. Пейзажем я манкировал принципиально, потому что литература – это одно, а изобразительное искусство совсем другое, портрета избегал из тех же соображений и вообще давал волю читательской фантазии, полагая, что книгу всегда сочиняют двое, – с одной стороны, Иван Тургенев, с другой стороны, тетка из Костромы.
За стиль я особенно не беспокоился, так как основательная начитанность – уже стиль, и меня единственно смущали длинноты, не поддававшиеся усечению, которые наводили свалку и дисбаланс. Например, я несколько ночей подряд маялся с одним единственным периодом, который, кстати, и приведу: «Иван Иванович смолоду был человек здоровый, но с годами нажил себе сахарный диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца и стойкую бессонницу, которую не брали никакие снотворные, к тому же он был туг на левое ухо, как Александр I Благословенный, но только, разумеется, не в результате учебных стрельб, а в результате того, что младшая дочь Оксанка гвоздем у него в ухе поковыряла, когда он однажды призадумался невзначай о прикладном значении Периодического закона Дмитрия Менделеева, а тут еще он занемог глазами, начал мало-помалу слепнуть, пока окончательно не ослеп». Уж я старался и так, и этак, и убирал избыточные эпитеты, и пытался разбить период на несколько сложных предложений, и два раза аннулировал Александра Благословенного, чтобы хоть как-то разгрузить текст, – дело кончилось ничем, если не считать, что у меня потом с неделю раскалывалась голова.
Когда я доводил черновик до нужной кондиции, то в ближайшее воскресенье шел в нашу районную библиотеку и перепечатывал на пишущей машинке рукопись уже в виде чистовика. Взять машинку напрокат было бы накладно, да и соседи по квартире устроили бы мне форменное аутодафе, стучи я на ней в своей комнате по ночам, а в библиотеке, уже будучи на пенсии, работала моя бывшая учительница французского языка Ангелина Ивановна Шамаханская и имелась пишущая машинка системы «ундервуд», которую мне позволяли использовать как свою. По пути в библиотеку я с тоской размышлял о том, что же такое у меня, в конце концов, получилось – настоящая вещь или жалкая чепуха… Я даже загадывал иной раз: если до телефонной будки выйдет ровно двенадцать шагов, то, значит, вышла настоящая вещь и вообще славное будущее мне обеспечено, если нет – нет.
В библиотеке работал я допоздна, по нескольку раз перепечатывая сомнительные места, пробуя «на зуб» каждую запятую, и когда заведение закрывалось, шел провожать Ангелину Ивановну до дома в Козихинском переулке, угол Спиридоньевки, дорогой рассуждая, например, о странных коллизиях, которые возникают на стыке литератур.
Положим, я говорю:
– Удивительное дело, Ангелина Ивановна! Вот мы, русские, отлично понимаем Страну восходящего солнца, чувствуем японскую культуру, поэзию, в частности, а они нас – нет.
Она:
– Ну почему… Японцы высоко ценят Чехова, Достоевского, и вообще они восприимчивы, как никто. Недаром этот народ живо перенял лучшие западноевропейские достижения, сохранив при этом свой исторический колорит.
– Однако же Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Зощенко, наконец, они не знают и знать не хотят!
– Просто японцы не понимают, как можно глумиться над родным, отечественным, и что самое странное, над собой!
– А немцы понимают! Гёте аттестовал своих соотечественников «наши немецкие дурни» – так их прямо и называл! Ибсен ненавидел норвежцев, датчанин Кьеркегор – себя, Бальзак вывел в своих сочинениях втрое больше монстров, чем наш Лесков! Сдается, из этого вытекает, что вся или почти вся великая литература питалась глубокой антипатией как раз ко всему родному: к отечеству, к обществу, которое окружает автора, к соотечественнику, к себе, сукину сыну (passez-moi le mot,[21] уважаемая Ангелина Ивановна), потому что он сукин сын и есть! Это мое стойкое убеждение, что большим писателем, как правило, руководит некое раздраженное озлобление против той действительности, которая взрастила его талант.
– А по-моему, литература прежде всего исходит из страха смерти, и она бывает тем серьезней, проникновенней, чем более в народной традиции смертный страх. В России смерти не боятся только уголовники, потому что им бояться нечем, и поэтому мы имеем величайшую из литератур. А, например, в Индии смерти никто не боится, а боятся как раз бессмертия через бесконечную цепь перерождений, и поэтому у них в заводе один Тагор…
Я:
– Мне кажется, это мысль! Во всяком случае, я еще в раннем детстве ужасался, как это – вот я умру, и после меня не останется ничего, кроме велосипеда «Орленок», по которому плачет металлолом?.. Я жил, страдал, мыслил, творил, а через пятьдесят лет после кончины, когда по закону сроют мою могилку, ни одна собака не скажет, существовал я взаправду или не существовал… Нет, я точно начал писать именно потому, что мне страстно хотелось оставить по себе какую-нибудь отметину, зарубку, то есть хоть какую-нибудь несчастную брошюрку про героев социалистического труда!