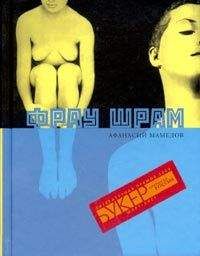— Нет такого города, в который нельзя было бы вернуться, — глубокомысленно изрек член Общества славян Закавказья, учтиво взял под локоток мою спутницу и отошел в сторону.
Гадая, что бы могли значить его слова, я вдруг почувствовал одиночество, тоску по Москве, а еще — будто за мной наблюдают с трех сторон, причем очень внимательно и недружелюбно, много-много пар глаз…
Подхожу поближе к фотопортретам: вдруг знакомое лицо увижу.
Как я понял, на снимках были запечатлены «самые-самые»: самые замечательные и знаменитые, самые независимые деятели партии Независимость. Висели они в один ряд в классических черных рамках и серых паспарту. Занимали неполные три стены, как бы удваивая букву «п»: повторяя таким образом форму здания. Меня немало удивил тот факт, что среди «независимцев» я не увидел ни одной женщины (казалось, что сама независимость их, не только тут, но и вообще в городе, отрицалась начисто.) Но еще больше удивляло то, что среди этих уважаемых господ, я не заметил ни одного, еще раз повторяю, ни одного представителя какой-либо иной некоренной национальности, как будто еврей или русский изначально не могли продвинуться в этой — как уверяла меня Ирана исключительно продвинутой партии. Фотограф сделал все от него зависящее, чтобы выявить мирские страсти, тайные пороки сих достославных мужей мужчин-охотников-хранителей очага. На первом месте, конечно же, корысть, далее можно по словарю Даля.
Я представил себе, как они, время драгоценное выкраивая, — а у них ведь в отличие от нас, простофиль, глупцов мятежных, все еще верящих в свободу, равенство и братство, так много хлопотных безотлагательных дел, — приезжали в Крепость, и снимались «алла прима»[58] — способ исполнения хорошо отрепетированный на том последнем манекене, которого мой друг американец спас от расстрела, затем, выкурив сигаретку, откушав чайку и потрепав поощрительно милого фотографа-еврейчика (он, говорят, несчастный такой, кокаинист, отца и мать в автокатастрофе потерял), спешат отправиться на большие дела, о которых народ простой узнает из газет, в частности — газеты «Дабл гюн».
Я спрашиваю себя, зачем здесь эти портреты? Может, их основная задача предсказывать и предписывать дальнейшее развитие ритуала? Но разве не говорят они все от имени другого, того, кого ставят выше себя самих. Кто он, этот другой? Уж не Заур ли? А может, их несколько, таких вот муаллимов, пользующихся бессрочным кредитом доверия?
Оставались еще вопросы, но Ирана взяла меня под руку и прижалась так, будто мы с ней на улице поздней осенью и она должна завтра уже уехать в свою Швейцарию…
Когда замужняя женщина с двумя детьми берет так под руку мужчину, с которым она (почему бы, не сказать правду?) просто… ну, хорошо, воздержимся от ненормативной лексики, просто проводит время, может означать только одно женщина та намеренно бросает вызов. Но кому? Неужели только отцу Алексею, провожающему нас взглядом? А может быть, всем им, висящим на стене, к которым у меня еще остаются кое-какие вопросы?
Коридор узенький и длинный. И шаги наши глушит ковер, родословная которого восходит аж к былинному Ковру Ковровичу.
Ирана только приоткрыла дверь справа, а волна очень холодного кондиционированного воздуха уже окатила нас с головы до ног.
Несколько официантов в малиновых жилетах с латунными пуговицами, похожие на гордых и задумчивых птиц в ледниковом периоде накрахмаленных скатертей, сосредоточенно сервировали столы.
Тихонечко, — а здесь все хотелось делать именно так: даже мальчик и девочка вели себя тихо, — закрываем дверь, возвращаясь в теплый и темный коридорный воздух с тем характерным запахом, который получается, если мясорубку с остатками свежего мяса оставляют в раковине под горячей водой. Этот запах свежей баранины и металла держится долго, пока его не перебьет какой-либо другой не менее сильный, не менее дикий.
Потом, минуя еще одну дверь, за которой слышится бульканье русского и азербайджанского языков, гортанный смех в зубных пломбах и звуки, напоминающие столкновение бильярдных шаров, сворачиваем посередине коридора налево в крохотный квадратный зальчик, и там, прямо у стенда с фотографиями города, налетаем на администратора, на которого не налететь, впрочем, было никак невозможно: он сидел за столиком на двух стульях: один бы не выдержал его. Раскланиваясь с нами, этот недужного вида человек, похожий на борца сумо, сообщил, что все собрались в баре. Уже собрались.
Дети, получив наводку от толстяка, пустились наперегонки.
Мать окликнула их, зашипела: «Забыли уговор?!»
Достала из сумочки конверт, привезенный мною из Москвы в журнале «Пари Матч».
Она поправила платье на девочке и передала ей конверт, красиво перевязанный ленточкой. «Ты все помнишь, что должна сказать? Не напутаешь? Смотри мне…»
Надо же, подумал я, с ее-то деньгами по второму разу использовать конверт. Что это? Бережливость, жадность, суеверие? А может, не то, не другое и не третье, а…
В баре собралось человек двадцать, никак не меньше. Все они хорошо знали друг друга и вели себя соответственно положению в обществе, то есть как должна вести себя экономическая и политическая элита.
Одни стояли маленькими группками, покуривали и попивали, разговаривая приглушенными голосами, другие делали то же самое, сидя за круглыми столиками на невысоком подиуме. Посторонних не было.
Когда мы входили, все смотрели на нас. (На меня — из-под нахмуренных бровей, но с нескрываемым интересом — как смотрят на забавную зверушку.)
Я не сразу увидел Хашима. Из-за жаркого света, лившегося сквозь настоящие витражи (не какая-нибудь там лабуда современная из пластмассы и клея, а цветное стекло, скрепленное свинцовыми обрамлениями), казалось, все кругом полыхает. Все, кроме стойки бара и бармена за стойкой. И в языках пламени уже не разобрать, кто именно горит. Но если бы даже я увидел его сразу, конечно, не сразу бы узнал.
Почему это мне всегда казалось, что мы с ним почти одного роста? Да он же как минимум на полголовы выше. И выглядит отлично. И полыхающая рубашка ванильного цвета, и галстук в голубенькую горизонтальную полоску — «морской пароль», и синие брюки (их огонь пока щадит), очень ему идут. И на веласкесовского карлика из того железнодорожного сна он совсем не похож.
Почему мне казалось в Москве, что я давно ему все простил? Почему?!
Девочка и мальчик подошли к отцу, поздравили, называя его по имени (для Баку это нормально, когда родители хотят оставаться молодыми, несмотря на годы, которые, как известно, не красят), передали конверт.
И тут до меня вдруг доходит, почему я здесь. И тут я вспомнил, какое сегодня число!! Одиннадцатое июня — день рождения Хашима.
Он, не торопясь, вскрыл конверт, бережно извлек оттуда электронную записную книжку, в которой уже было набито поздравление. Так же не торопясь, зачитывая его перед всеми, Хашим вполне искренне растрогался. Присел и на руки взял детей, встал, сделал с ними несколько плавных вальсовых движений под всеобщие аплодисменты и любопытный циклопий взгляд видеокамеры.
— А ты какого рожна здесь?! — напугал меня Марк, неожиданно возникший из-за образцово патрицианской спины седоголового господина, чье фото украшало фойе.
«А ты?», хотел спросить я его, ведь одиннадцатое число мы всегда отмечали где-угодно, только не у Хашима, он никогда не приглашал нас к себе. Мы собирались в кебабной на Кубинке, если, были втроем, если же к нам присоединялась Нанка, шли в «Садко», что на эстакаде и далеко уходит в море или же в «Снежинку», напротив хореографического училища.
— Тебя что, Ирана пригласила?
— Сегодня ты на редкость догадлив.
— А ты, видно, здешние нравы позабыл уже.
— Ну, не такие уж тут дикие нравы. Зря ты за меня так переживаешь. И декорации вполне западные, и батюшка вместо муллы, и в руках у тебя двойной скотч.
Марк щелкнул пальцем. Почти тут же перед нами возник официант в жилете с латунными пуговицами.
— Скотч. Двойной. — Хрюкнул мой друг.
— А может, я хотел джин. Джин с тоником.
— А может, ты угомонишься? Вспомни, что ты мне в Крепости советовал.
Я оглядел зал…
Ее я тоже не сразу узнал. На ней было короткое платьице из черного панбархата с вырезом сзади, не до самой попки, как у той актрисы, имя которой я позабыл, в том смешном французском фильме, — но, глядя на ее прямую вышколенную спину, вдоль позвоночника поросшую персиковым пушком, — тоже дух перехватывало и отвести взгляд было никак не возможно.
Так вот, значит, кого должен был встречать Марк!
— Не думала вас здесь встретить, — сказала она, подходя к нам.
— А я вообще не предполагал, что мы когда-нибудь свидимся. — Сказал и тут же вспомнил поезд, вспомнил, как подумал тогда: «Теперь от меня мало что зависит». Ну что ж, оказалось, действительно «мало». Честно говоря, я пожалел, что судьба свела меня вновь с Таней: передо мной стояла уже другая девушка.