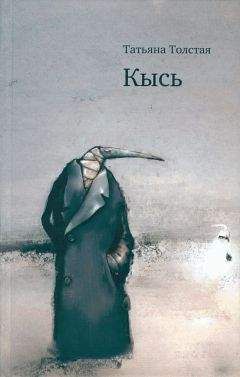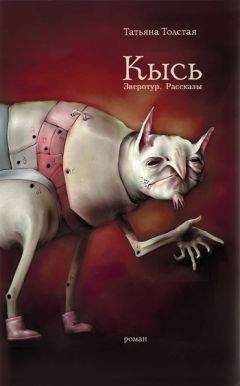В Красном Тереме запах такой с плеснецой, – знакомый, волнующий… Ни с чем не спутаешь. Старая бумага, древние переплеты, кожа их, следы золотой пыльцы, сладкого клея. У Бенедикта немножко подкашивались и ослабевали ноги, будто шел он на первое свидание с бабой. С бабой!.. – на что ему теперь какая-то баба, Марфушка ли, Оленька ли, когда все мыслимые бабы тысячелетий, Изольды, Розамунды, Джульетты, с их шелками и гребнями, капризами и кинжалами вот сейчас, сейчас будут его, отныне и присно, и во веки веков… Когда он сейчас, вот сейчас станет обладателем неслыханного, невообразимого… Шахиншах, эмир, султан, Король-Солнце, начальник ЖЭКа, Председатель Земного Шара, мозольный оператор, письмоводитель, архимандрит, папа римский, думный дьяк, коллежский ассессор, царь Соломон, – все это будет он, он…
Тесть освещал дорогу глазами. Два сильных, лунно-белых луча обшаривали коридоры, – пыль то загоралась и плавала в столбах света, то погасала на миг, когда тесть смаргивал, – голова у Бенедикта кружилась от частых вспышек, от запаха близких книжных переплетов и сладковатой вони, шедшей из тестевой пасти, – тот все подергивал головой, словно его душил ворот. Тени, как гигантские буквицы, плясали по стенам, – «глаголь» крюка, «люди» острого колпака Бенедикта, «живете» растопыренных, осторожных пальцев, ощупывающих стены, шарящих в поисках потайных дверей. Тесть велел ступать тихо, ногами не шуркать.
– Слушай революцию, тудыть!..
Революционеры крались по коридорам, заворачивали за углы, останавливались, озирались, прислушивались. Где-то там, у входа, валялась жалкая, теперь уже бездыханная, охрана: что может бердыш или алебарда против обоюдоострого, быстрого, как птица, крюка!
Прошли два яруса, поднимались по лестницам, на цыпочках пробегали висячие галереи, где сквозь оконные пузыри сильно и страшно светила луна; черными валенками бесшумно пробежали по лунным половицам; раскрылись внутренние, высокие и узорные сени, где похрапывала, – ноги взразвалку, шапки на грудях, – пьяная внутренняя охрана. Тесть тихо заругался: ни порядку в государстве, ничего. Все Федор Кузьмич развалил, слава ему! Быстро, сильно тыкая, обезвредили охрану.
После сеней опять пошли коридоры, и сладкий запах приблизился, и, глянув вверх, Бенедикт всплеснул руками: книги! На полках-то – книги! Господи! Боже святый! Подогнулись колени, задрожал, тихо заскулил: жизни человеческой не хватит все перечитать-то! Лес с листьями, метель бесконечная, без разбору, без числа! А!.. А!!!.. А!!!!!!!!! А может… а!.. может тут где… может и заветная книжица!.. где сказано, как жить-то!.. Куда идтить-то!.. Куда сердце повернуть!.. Может, ту книжицу Федор Кузьмич, слава ему, уже нашел, разыскал да читает: на лежанку прыг, да все читает, все читает! Вот он ее нашел, ирод, да и читает!!! Тиран, бля!
– Не отвлекайся! – дохнул в лицо тесть.
Коридоры ветвились, загибались, раздваивались, уходили в неведомые глубины терема. Тесть крутил глазами – только книжные корешки мелькали.
– Должон простой ход быть, – бормотал тесть. – Где-то тут простой ход быть должон. Быть того не может… Где-то мы тут сбилися…
– «Северный Вестниииииик»!!! Восьмой номееееееер!!! – завопил Бенедикт. Рванулся, толкнув Кудеяр Кудеярыча; тот споткнулся, ударился о стену; падая, уперся рукой; стена подалась и оборотилась полкой, полка рухнула и посыпалась, и се, – раскрылась взгляду палата большая-пребольшая, по стенам все шкафы да полки, а в палате столы без счету, книгами завалены, а у главного стола, в полукольце тысячи свечей, тубарет высокий, а на тубарете сам Федор Кузьмич, слава ему, с письменной палочкой в деснице; личико к нам оборотил и ротик разинул: удивился.
– Почему без доклада? – нахмурился.
– Слезай, скидавайся, проклятый тиран-кровопийца, – красиво закричал тесть. – Ссадить тебя пришли!
– Кто пришел? Зачем пропустили? – забеспокоился Федор Кузьмич, слава ему.
– «Кто пришел», «кто пришел»! Кто надо, тот и пришел!
– Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите! – крикнул и Бенедикт из-за тестева плеча.
– Чего «трепещите»-то? – Федор Кузьмич понял, скривил личико и заплакал. – Вы чего делать-то хотите?
– Кончилась твоя неправедная власть! Помучил народ – и будя! Сейчас мы тебя крюком!
– Не надо, не надо меня крюко-ом! Крюком больна-а!
– Ишь ты! Он еще будет жалкие слова говорить! – закричал тесть. – Бей его! – И сам ударил наотмашь. Но Федор Кузьмич, слава ему, горошком скатился с тубарета и отбежал, так что попал тесть по книге, и книга та лопнула.
– Зачем, зачем вы меня ссаживаете-е-е-е?
– Плохо государством управляешь! – закричал тесть страшным голосом. Бросился с крюком к Набольшему Мурзе, долгих лет ему жизни, но Федор Кузьмич, слава ему, опять нырнул под тубарет, оттуда под стол, и перебежал на другую сторону горницы.
– Как умею, так и управляю! – заплакал с той стороны Федор Кузьмич.
– Развалил все государство к чертовой бабушке! Страницы из книжек выдираешь! Лови его, Бенедикт!
– У пушкина стихи украл! – крикнул тоже и Бенедикт, распаляя сердце. – Пушкин – наше все! А он украл!
– Я колесо изобрел!
– Это пушкин колесо изобрел!
– Я коромысло!..
– Это пушкин коромысло!
– Я лучину!..
– Вона! Еще упорствует…
Бенедикт бросился ловить Федора Кузьмича с одной стороны стола, тесть кинулся в обход с другой стороны, а Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, опять нырнул под стол и перебежал назад.
– Не трогайте меня, я добрый и хороший!
– Юркий, гнида! – закричал тесть. Рукой о стол оперся и прыгнул, прямо одним прыжком столешницу перемахнул. Федор Кузьмич, слава ему, визгнул, порскнул под шкаф и забился там в глубину куда-то.
– Лови его! – хрипел тесть, шаря и тыкая крюком под полками. – Уйдет! Уйдет! У него тут ходы всюду прорыты!
Бенедикт подбежал на подмогу. Вместе, мешая друг другу, тыкали крюками, шарили, запыхались.
– Чего-то держу, вроде попался… Ну-к, ты помоложе, нагнись погляди… Не подцепить никак… Он, нет?..
Бенедикт встал на четвереньки, завернул голову под шкаф, – темно, клочья какие-то.
– Не видать ничего… Кудеяр Кудеярыч, вы бы посветили!
– Выпустить боюсь… Ну-ка, крюк перехвати у меня… Ч-черт, не пойму…
Бенедикт перехватил крюк; тесть встал на карачки, пустил под шкаф свет, кряхтел.
– Пылишша… Не видать ничего… Пылишшу развел…
Под крюком дернулось, вроде как одежда треснула, Бенедикт тыкнул с поворотом, но поздно: туку-туку-туку, – мелкие шажочки перебежали вдоль стены за полками куда-то вглубь палаты.
– Упустил, черт! – крикнул тесть с досадой. – Учил ведь тебя, учил!
– А чего всегда я!.. Вы сами за одежу зацепили!
– Придавить надо было! Где он теперь… А ну, выходи, Федор Кузьмич! Выходи по-хорошему!
– Нечестно, нечестно! – крикнул Федор Кузьмич, слава ему, из-под полок.
– Там он! Давай!
Но Федор Кузьмич опять перебежал.
– Не надо меня ловить, маленького такого!..
– Тыкай!.. Тыкай сюда, тудыть!..
– Почему настаиваете?.. Уходите отсюда! – пискнул Федор Кузьмич из третьего места.
– …Плохие люди! – крикнул из четвертого.
Тесть озирался, Бенедикт озирался, вытянув шею, склонив голову, – вот шуркнуло под дальним шкафом; повернул голову к дальнему шкафу; вот прошелестело под полками; мягким длинным прыжком Бенедикт прыгнул к полкам; если закрыть глаза, звуки лучше слышно; закрыл глаза, поводил головой из стороны в сторону; еще бы уши прижать, – совсем хорошо бы: ноздри раздулись, – можно и по запаху… где он пробегает, там его запах… Вот он!
– Вот он! – крикнул Бенедикт, прыгая, наваливаясь и крутя крюком; под крюком пронзительно, тонко завизжало. – Держу-у-у-у!
Лопнуло что-то; звук такой тихий, но отчетливый; на крюке напряглось и обмякло. Бенедикт крутанул и выволок из-под полки Набольшего Мурзу, долгих лет ему жизни. Тельце чахленькое, а сколько возни было. Бенедикт сдвинул колпак, обтер рукавом нос. Смотрел. Видать, хребтина переломилась: головка набок свернута, и глазки закатимши.
Тесть подошел, тоже посмотрел. Головой покачал.
– Крюк-то запачкамши. Прокипятить придется.
– Ну а теперь чего?
– А счисть его вон хоть в коробку.
– Руками?!
– Зачем руками? Боже упаси. Вон бумажкой давай. Бумажки-то тут полно.
– Э, э, книги не рвите! Мне читать еще!..
– Тут без букв. Картинка одна.
Тесть вырвал портрет из книжки, свернул кульком, руку просунул и счистил Федора Кузьмича, слава ему, с крюка. И крюк обтер.
– Так вот, – бормотал тесть. – Никому тиранить не дозволено! Ишь, моду взяли: тиранить!
Бенедикт что-то вдруг устал. В висках заломило. А потому что нагибался с непривычки. Сел на тубарет отдышаться. На столе книг куча понаразложена. Ну, все. Все теперь его. Осторожно открыл одну.
Весь трепет жизни, всех веков и рас,
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
Стихи. Захлопнул, другую листанул.