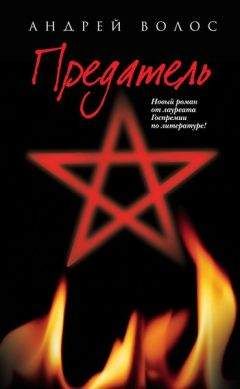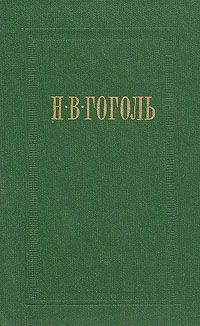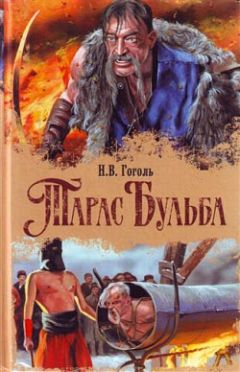Сам он в этом не участвовал, учился еще… Шелапутин, тогдашний начальник райотдела, посвящал практикантов в детали операции. Лашкетина, правда, по фамилии не называл, конспирировал. Это уж после Карпий узнал — лейтенант Лашкетин ее проводил.
Правильно тогда руководство решило. В полутора километрах от Кирпичного организовали штрафную командировку. Палатки, внутри нары дощатые. На нарах, если вплотную, человек сто двадцать поместится. А если двести — часть в проходе стоит, переминается, дожидаясь, когда лечь можно будет.
Свозил Лашкетин с Воркуты, с Ухты, с Усы, с Печоры. Отовсюду, в общем. Малыми этапами. Со стороны не понять. Если с Воркуты — вроде как на Печору этап. А если, скажем, с Ухты — то на Воркуту. Обычная вещь, этапы беспрестанно туда-сюда таскаются. Ушел этап — и ушел, никто и не подумает, что он не на Печору вовсе, не на Воркуту, а на ту самую потайную командировку.
И правильно — сначала собрать, а потом уж в рабочем ритме, чтобы перебоев не было.
Каждый божий день человек по шестьдесят на Кирпичный завод. Что значит — завод? Пока работал, был завод, да и то одно слово. Три гнилых сарая. В сараях печи. Печи под крышей, чтоб дождем и снегом не холодило. А все остальное так — под небушком. Одни формуют, другие носилками к печам. Глину, правда, машиной мяли. Барабан такой с валом. И лопасти. К валу бревно присобачено. Пятерых доходяг подпрягут, ходят по кругу — оно и вертится. Механизация…
Малыми колоннами. Вроде как на смену работающим. А там взвод стрелков встречал. Один пулемет станковый, другой легкий… Потом, к весне уж, в апреле аммоналом рвали, чтобы образовавшуюся свалку хоть как засыпать.
А в райотделах в ту пору что делалось! Горячка, страда! Всех же надо отследить — где у кого жена, где дети… всех собрать туда же, на Кирпичный. Весь ГУЛАГ на ушах стоял. Письма, звонки, нарочные… Из-за одного какого-нибудь сопляка, бывало, чуть ли не все тюрьмы, все детдома Союза приходилось прошерстить!.. Потому что, как лейтенант Лашкетин говорил, рубить надо подчистую, до последнего корешка. И правильно. Это как у дракона головы: одну оставь, она тут же сотню возле себя прорастит…
В общем, тут рассуждать — только время тратить попусту. Коли фашист навалился, нельзя в тылу столько вражья держать, никак нельзя. Всем понятно, что приказ поступит. Не может не поступить. Дело тяжелое, конечно… неподъемное. Это со стороны кажется, что человека убрать легко. А на деле, бывает, пять раз в него пальнешь, а он все жив.
Вообще, странно представить: как люди без пули умирают? То есть известно, что умирают… сунешь его на холод, посидит дня три на льду… еще через три — на волокушу. Да, все так. Но все-таки чудно. Не должен человек умирать от такого пустяка, как воспаление легких. Или от почек там отмороженных… или от цинги еще какой-нибудь. Не должен, потому что известно точно: человека и пулей не скоро убьешь.
А ведь убить — это самое начало. Самый краешек дела. А потом что? Человек — не бревно. Бревно в костер сунул — оно и сгорело. Пепел ветром разнесло. Конец. А этот не горит. Не тонет. Топишь — всплывает. Намаешься…
А если не один, а десять? А если сто? Тысяча? Тут, брат, волосы на голове шевелятся, как представишь, сколько возни!..
Потому он и яму вырыл, что это самое верное было. Раньше никому не приходило в голову — а ему пришло. Потому что опыт и разум. Глубокая яма. Сушняк. Жар — как в аду. Десять штук минут за пять уйдет. Даже двадцать. Пых! — и чисто. Потом еще маленько подвалить сушины. Следующие двадцать. Пых!.. Огонь — сила. Из барака двадцатку вывел, на краю построил. Хлясь! — готово.
Ничего, еще пригодится изобретение. Он делиться ни с кем пока не собирается. Не всякий придумает. Это ведь дело такое… творческое. С кондачка не получится. Надо изначально понимать, с какого конца браться, с каких начал мыслить. Коли мелькнула мысль — так до конца ее продумать, до каждой мелочи. Лашкетин — уж какой умник, а до такого не допер. А ведь у него и печи на Кирпичном были готовые… мог бы мозгами раскинуть. Может, потому его и разменяли в тридцать девятом. Слишком наследил.
Карпий вздохнул. Ему подумалось, что, возможно, руководство тянет сейчас с важным и ответственным решением из-за того, что поторопилось когда-то списать самых ловких. Самых, можно сказать, мастеровитых. Прежде списали, а теперь кому поручить?.. Того же Лашкетина взять. Горел человек на работе. Разве по своей воле горел? — приказ выполнял. А как выполнил — оказалось, сам повинен…
Побарабанил пальцами по доске. Пожалуй, про собственные задумки насчет избавления государства от тыловой опасности звонить все же не стоит. Даже не потому, что жалко изобретение из рук упускать… как не жалко! — свое ведь, родное. Но не в этом дело. А в том, что заявление создается объяснительное… даже просительное. И вдруг такие крепкие слова: самостоятельно! в опережение соответствующего приказа!.. Ишь, скажут, каков гусь! Сам, видите ли, решения принимает! О дисциплине у него, похоже, вообще никакого понятия нет!..
Нет уж. Надо ближе к собственным надобностям, вот что. Ближе к тяготам его несправедливым.
«Между тем я сижу с конца июня. Сначала обвиняли что в сельхозе нарушался порядок расконвоирования. Эти обвинения я отвел и обвинения прояснились как несправедливые. Второго июля приступил к работе в качестве помощника начальника третьего отдела ХОЗУ Ухтпечлага и стал прикладывать все силы к налаживанию работы. А в начале января я снова был арестован по выдуманным показаниям что позволял превысить нормы заготовки зимних запасов на некоторых лагерных пунктах Усинский Лесорейд (начальник лагпункта Рекунин). С тех пор обвинения мне никакого не предъявляют. Как я могу доказать свою невиновность и преданность партии и правительству если она никому не интересна. Прошу вас разобраться в моем деле.
Если партия и правительство найдет в моих действиях вражескую работу я готов нести ответственность по всем строгостям революционной законности. Но я искренне заявляю перед партией и правительством что в моих действиях ничего сознательного не было. И я прошу разъяснить мне это положение и внести ясность в мое понимание вопроса.
Сержант Гос. Безопасности Карпий. 25 января 1942 года.»
С чувством завершения серьезной работы отодвинул от себя бумагу, решив перечитать потом как следует и перебелить, устранив вычерки и помарки.
Вытянул ноги на нарах, лениво прикидывая, как скоро Семеркин принесет обед.
Но обеда он не дождался: под зарешеченным окном послышался скрип снега, потом загремели, залязгали заплоты, хлопнула дверь избы; поспешные шаги, снова лязг, и вот уже открылась дверь бревенчатой выгородки, где содержались арестанты.
Это был Губарь. Карпий сразу почуял, что хмурость его для фасона — дескать, важных дел невпроворот. А глаза блестят, движения резкие, видно, что и собранность у него веселая, как будто предвкушает что-то интересное. Это ведь для человека как важно — чтобы вперед живое дело звало! Кто этого не понимает, тот вообще работы знать не может!..
Губарь бросил на нары портупею. Кобура тяжело шмякнулась о матрас.
— Собирайся!
— Что такое? — глупо улыбаясь, пробормотал Карпий. Он еще толком не верил в реальность происходящего, но понимал, что если возвращают «наган», то дело кончено вчистую.
— Крупицын приказал — пускай кровью смывает.
— Какой еще кровью? — недоуменно морщась, переспросил Карпий. — Что смывать?
— Что смывать, спрашивает! Да неужто грехов за собой никаких не знаешь? — Губарь сощурился. — Ой, Петро! Не гневи бога!
— Не знаю ничего, — буркнул Карпий, подпоясываясь. — Наше дело служебное. У нас без приказа муха не летает…
— Не знает он! Спасибо скажи, что горячка такая! Каждая пара рук на счету.
— Что за горячка?
— «Что за горячка»! Весь ГУЛАГ на рогах. В Усть-Усе восстание!
— Маковки соленые! — ахнул Карпий. — Как же это? Кто?
— Кто! Не знаю. Вроде как с «Лесорейда» двинулись… Пошли, пошли, ехать надо!
Оперуполномоченный Карячин сидел на кровати и шарил под каким-то линялым тряпьем, составлявшим небогатое содержимое раскрытого чемодана. Нащупав наконец что искал, он захлопнул чемодан, послал его пинком под койку, а сам, поднеся кусок мыла к носу, стал вдумчиво внюхиваться.
Мыло было хорошее — туалетное; не то что казенное — из собак и щелочи.
Рассеянно глядя в обмерзшее окно, он вдыхал сладковатый запах, навевавший тоску об уюте и покое, — и сердце щемило. И мысли какие-то дурацкие в голову лезли: дескать, и он мог бы жить по-другому…
А как по-другому? Давно он привык к той жизни, что была, а другой уже и помыслить не мог: крепко заскорузла на нем непрошибаемая шкура разгонного чекиста, всегда готового взять под козырек и нестись исполнять новое приказание.