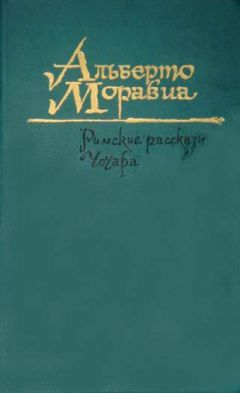Я спросила, почему его так раздражает, когда отец говорит о еде. Он подумал немного и ответил:
— Если бы ты знала, что завтра умрешь, ты стала бы говорить о еде?
— Нет.
— А мы именно в таком положении и находимся. Завтра или через много лет, но мы все равно умрем. Так почему же в ожидании смерти мы должны говорить или заниматься глупостями?
Я не совсем поняла его мысль и продолжала настаивать:
— А о чем же нам тогда говорить?
Он подумал еще немного и сказал:
— В настоящее время и в нашем положении мы должны были бы говорить, например, о причинах, по которым в такое положение попали.
— А какие это причины?
Он засмеялся и ответил:
— Каждый должен был бы найти эти причины сам, самостоятельно.
Я сказала еще:
— Может, оно и так, но твой отец говорит о еде именно потому, что ее нет и мы вынуждены поэтому о ней думать.
Микеле ответил:
— Возможно. Беда лишь в том, что мой отец всегда говорит о еде, даже тогда, когда она есть у всех.
Но еды не было, запасы подходили к концу, и все старались сберечь для себя то немногое, что еще у них оставалось. Все делали вид, что у них больше ничего нет. Филиппо, например, почти каждый день повторял более бедным беженцам:
— У меня муки и фасоли хватит не больше, как на одну неделю, а уж потом пусть бог мне поможет.
Это была неправда, все знали, что у него еще есть мешок муки и мешочек фасоли, а он, боясь, что у него украдут их, никого не приглашал к себе в дом, а днем запирал дверь на ключ и уходил бродить по мачерам с ключом в кармане. У крестьян на самом деле кончались запасы, наступало то время, когда они обычно шли в Террачину и покупали там продукты, чтобы как-нибудь перебиться до следующего урожая. Но в этом году в Террачине, вероятно, свирепствовал еще больший голод, чем в Сант Еуфемии. Кроме того, кругом сновали немцы, тащившие все, что попадало им под руку, не потому, что они были все негодяи и воры, а потому, что шла война и они воевали, а на войне и убивают и крадут. Однажды к нам пришел немецкий солдат, как будто просто так, ради прогулки; немец был один и без оружия. Он был брюнет, с круглым и добрым лицом и беспокойными и немного грустными голубыми глазами; он долго бродил между хижинами и разговаривал с беженцами и крестьянами. Было видно, что пришел он сюда без всяких дурных намерений, что он даже с симпатией относится ко всем этим бедным людям. Он рассказал нам, что в мирное время был у себя в деревне кузнецом и очень хорошо играл на гармошке. Тогда один из беженцев принес ему свою гармошку, немец сел на камень и долго играл нам. окруженный детьми, которые смотрели на него, разинув рот. Играл он действительно хорошо, сыграл нам много разных песен, между прочим и «Лили Марлен», которую пели тогда все немецкие солдаты. Это была очень грустная песенка, звучавшая совсем жалобно; я слушала ее и думала, что немцы, которых Микеле так ненавидит и не считает даже людьми, на самом деле такие же люди, как и мы, у них тоже есть дома жена и дети, они тоже ненавидят войну, которая держит их далеко от дома и семьи. После «Лили Марлен» немец сыграл нам еще несколько мелодий, все они были грустные, но в то же время торжественные, некоторые из них были очень сложные, прямо как концертная музыка. Он играл, склонив голову к гармошке, легкие пальцы летали по клавишам, поза его показывала, что это был человек серьезный, понимающий, что к чему. Было видно, что он не питает ни к кому ненависти и если бы мог, то охотно перестал бы воевать. Он играл так почти целый час, а уходя, погладил детей по головкам, сказав им на ломаном итальянском языке:
— Не бойтесь, война скоро кончится.
Тропинка, по которой он спускался вниз, шла мимо хижины, где жил один из беженцев; так вот, этот беженец повесил на изгородь свою красивую рубашку в белую и красную клетку. Немец, проходя мимо, остановился, потрогал материю, чтобы установить ее качество, покачал головой и пошел дальше. Но не прошло и получаса, как он снова появился возле хижины, задыхаясь от быстрого бега в гору, схватил с изгороди рубашку, сунул ее себе под мышку и был таков. Понимаете? Он играл на гармошке, ласкал детей, было видно, что это хороший человек, но, уходя, он увидел рубашку, которая ему очень понравилась, стал думать о ней, но все еще шел вниз, пока соблазн не пересилил в нем совести, тогда он вернулся наверх и взял рубашку. Когда он играл на гармошке, это был кузнец мирного времени, но потом он снова стал солдатом, не знающим разницы между моим и твоим, не уважающим ничего и никого, — и тогда он украл. Одним словом, как я уже говорила, на войне не только убивают, но и грабят; человек, который в мирное время ни за какие деньги не станет убивать или красть, во время войны чувствует в глубине сердца присущее всем людям инстинктивное желание грабить и убивать; это желание возникает в нем потому, что его поощряют к этому, убеждая, что этот инстинкт хороший и что он должен действовать, повинуясь этому инстинкту, иначе он не будет настоящим солдатом. И человек начинает рассуждать примерно так: «Сейчас война… когда опять наступит мир, я стану тем, кем был раньше… теперь мне все дозволено». К сожалению, я уверена, что человек, укравший или совершивший убийство, даже если это случилось во время войны, никогда больше не будет таким, каким он был раньше. Это можно сравнить с тем, как если бы девушка, будучи девственницей, разрешила кому-нибудь лишить себя девственности, надеясь, что по какому-то там чуду сна потом опять станет девственницей, но таких чудес не бывает на свете. Тот, кто хоть однажды стал вором и убийцей, останется вором и убийцей навсегда, пусть даже он носит военную форму и грудь его покрыта медалями.
Крестьяне знали, что немцы имеют привычку забирать все, что плохо лежит, поэтому они организовали нечто вроде передвижных постов из мальчишек, которые должны были находиться друг от друга на расстоянии голоса от Сайт Еуфемии до самой долины. Как только на горной тропинке показывался немец, сейчас же первый из мальчишек кричал во всю силу своих легких:
— Малярия!
Следующий, находившийся выше, повторял:
— Малярия! — и так далее, пока этот сигнал «Малярия» не доходил до Сант Еуфемии, подымая там переполох: кто хватал мешок с мукой, кто мешочек с фасолью, один тащил горшок со смальцем, другой сосиски, все это пряталось в кусты или в пещеры. Иногда немец приходил на самом деле — никто не знал, зачем они сюда являлись, — и бродил среди хижин, а все ходили за ним, прямо как во время процессии, и разыгрывали комедию — показывали ему жестами, поднося руки ко рту, что им хочется есть. Но большей частью тревога оказывалась ложной, никто не появлялся, беженцы ждали еще час или около этого, потом вздыхали с облегчением и вынимали свои запасы из тайников.
Мои запасы тоже подходили к концу, продуктов нигде нельзя было достать, и я решилась на крайнее средство: поискать где-нибудь в другом месте — деньги у меня были, может, в другом месте достану что-нибудь. И вот в одно прекрасное утро очень рано мы пустились в путь — Розетта, Микеле и я, направляясь в горное селение Черный Камень, находившееся от нас примерно в четырех часах ходьбы. Мы рассчитывали прийти туда к полудню, купить там, что будет возможно, закусить и вечером вернуться в Сант Еуфемию.
Мы вышли, когда солнце еще не показывалось из-за гор, хотя давно уже было светло. Дул холодный, так называемый «снежный» ветер, от которого у нас сразу замерзли носы и уши; на перевале был действительно снег: белые пятна, таявшие на изумрудной траве. Но как только солнце поднялось, сразу потеплело. Панорама гор Чочарии, покрытых белыми пятнами, была так красива, что мы остановились на несколько мгновений полюбоваться ею. Помню, что Микеле сказал с невольным вздохом, смотря на эти горы:
— Как хороша все-таки Италия. Я ответила, смеясь:
— Ты говоришь так, Микеле, как будто тебе это не нравится.
А он мне:
— Так оно и есть, меня это немного огорчает, потому что красота — это искушение.
Пройдя перевал, мы пошли по тропинке между скал; сначала тропинка была еле заметна, казалась просто следом на траве, но постепенно становилась все более ясной и шла уже по гребню горы, так что с двух сторон от нее были обрывы: один из них спускался прямо к Фонди, другой, менее глубокий, спускался в пустынное ущелье, заросшее кустами. Тропинка долго шла по гребню гор, извиваясь, как змея, затем повела нас вниз, в это дикое ущелье, заросшее кустами и дубами. Мы сошли на самое дно ущелья, которое походило больше на овраг и было совершенно пустынно, и долго следовали вдоль ручья, который извивался среди кустов, нарушая своим журчанием тишину этого места. Тропинка начала подниматься по другому склону оврага и привела к другому перевалу, потом опять немного спустилась вниз и начала взбираться еще на одну гору. Все вверх и вверх, пека мы не дошли до вершины горы, голой и каменистой, с почерневшим и старым крестом, неизвестно когда и кем поставленным здесь среди камней. Мы продолжали идти вдоль гребня гор, пока, наконец, не подошли к очень странному месту, которое могли хорошо рассмотреть сверху, прежде чем опуститься туда. Это было небольшое плоскогорье, гладкое, как ладонь, и было оно расположено под огромной красной скалой, имевшей форму кулича. На плоскогорье росли редкие дубы, и оно было усеяно большими камнями. Дубы, огромные и старые, протягивали свои голые серые ветви, похожие на волосы ведьм, над большими и маленькими каменными глыбами совершенно одинаковой формы, похожими на сахарные головы, гладкие и черные, как будто обточенные. Между дубов и скал виднелось много хижин, из почерневших соломенных крыш шел дым; женщины шили, сидя перед хижинами, некоторые вешали выстиранное белье на веревки, вокруг них играли дети; мужчин не было видно, потому что это было селение пастухов, а пастухи уходят со своими стадами на весь день в горы. Когда мы спустились к хижинам, то увидели, что под большой скалой, о которой я уже говорила, она была похожа на кулич, чернело отверстие — вход в пещеру. Одна из женщин сказала нам, что в пещере находятся беженцы. Я спросила у женщины, не может ли она продать нам что-нибудь, но она только мрачно покачала головой, затем неохотно добавила, что, может быть, беженцы продадут мне что-нибудь. Это мне показалось очень странным, потому что обычно беженцы не продают, а покупают.