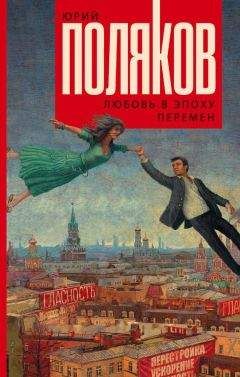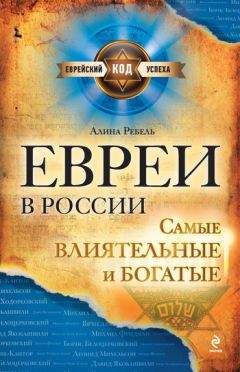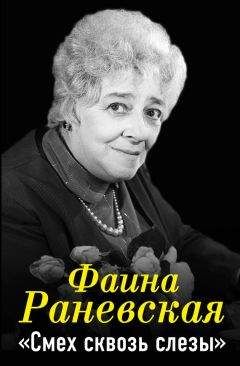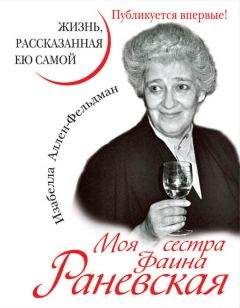— Вставайте, будем завтракать! — и вышла.
Скорятин оделся и, по возможности утишая неизбежные гигиенические звуки, посетил скорбный туалет с древним чугунным бачком, обметанным каплями конденсата. Потом он умылся. Газовая колонка жутко шипела, а кран с резиновым наконечником выплевывал то ледяную воду, то кипяток. Стол в Зоиной комнате был уже накрыт. Библиотекарша испекла блинчики с изюмом, к ним подала густую желтую сметану в вазочке, а кофе заварила в старинной турке с костяной ручкой.
— Может быть, предпочитаете растворимый? — спросила она.
— Нет, не люблю химию.
Завтракая, он исподтишка осмотрелся. На стене полки с книгами, над проигрывателем портрет певца Юрия Гуляева, недавно умершего от рака. Из-за шифоньера выглядывает спортивный алюминиевый обруч, в углу стоит педальная швейная машинка, над креслом-кроватью — фото в ракушечной рамке: девочка, трогательно похожая на Зою, сидит под пальмой на лавочке, приникнув к молодой грустной женщине с гладкой учительской прической. Внизу — белесая витая подпись: «Гагры, 1970 год».
— Вы? — спросил он.
— Я с мамой…
По тому, как она это произнесла, стало ясно: мамы давно нет на свете, а папа если и был, то сплыл. Расспрашивать Гена не решился, помня завет тестя: «С женщинами как с бабочками: главное — не спугнуть».
— Изумительные блинчики! — похвалил московский обольститель.
— Это так, на скорую руку. Приезжайте летом! Я с земляникой пеку.
— А вот и приеду! На работу не опоздаете?
— Нет, отпрошусь — нога болит.
Скорятину страшно не хотелось уходить, но он понимал: засиживаться нельзя. Если хочешь вернуться, уйди раньше, чем надоешь. Спецкор встал и откланялся легко, элегантно — с необязательной улыбкой на лице и тоской в сердце. Гена заскучал, еще не перешагнув порог. Зоя, хромая, проводила до двери.
— Когда уезжаете?
— Не знаю. Мне еще надо встретиться с Веховым.
— Будьте осторожны, он очень нехороший человек!
У подъезда на лавочке сидели три старушки. Одна, в панаме, похожая на телевизионную Маврикиевну, читала «Новый мир», две других, в платочках, лузгали семечки. Рядом бродили куры и, склоняя набок головы, следили за шелухой, отлетавшей от впалых уст, гурьбой бросались на добычу, клевали, разочаровывались и снова с надеждой смотрели на пенсионерок, а те в свою очередь провожали московского гостя осуждающими взглядами.
…Булькнул мобильник — пришла эсэмэска от дочери: «Получила. Сп-бо!».
«Пжлста», — ответил отец и поискал сочувствия в добрых глазах Ниночки.
«На бабушку Марфушу тоже похожа…» — решил он и нажал кнопку селектора:
— Слушаю, Геннадий Павлович!
— Оль, я бы пожевал чего-нибудь…
— Ясненько. Чай или кофе?
— Чай. Зеленый.
Возле флигеля, под цветущей яблоней, сидел Вехов и сам с собой играл в дорожные шахматы. Крошечные черно-белые фигурки со штырьками втыкались в отверстия на доске, и никакая тряска в пути не могла помешать партии. Очень удобно! Бледное лицо правдоискателя было озарено чистой шахматной мыслью. Рядом с ним, на скамейке, лежал газетный сверток, перетянутый шпагатом.
— Вы ко мне? — глуповато спросил журналист.
— К вам… — вскинулся книголюб.
— И давно ждете?
— С вечера.
— Не понял.
— Значит, все это — правда?
— Что — правда?
— Водка, баня, голые комсомолки и прочие номенклатурные радости. Дешево же покупаются «золотые перья»!
— Что за чушь! Я попал под ливень. Пришлось ночевать у знакомых…
В доказательство он развернул плечи, хрустнув затвердевшей замшевой курткой.
— Шучу, шутка юмора, — на лице Вехова появилась перевернутая улыбка. — Да мне и не важно. Сам ненавижу, когда лезут в личную жизнь. Ах, она совсем еще девочка! Ах, как вам не стыдно! Стыд — часть удовольствия. Но не в этом дело. Вчера нам так и не удалось поговорить. Геннадий Павлович, у вас, надеюсь, найдется для меня десять минут? Вы ведь по моему письму сюда приехали?
— Отчасти.
— И Болотина, конечно, сказала вам, что я ворую у нее книги?
— А вы не воруете?
— Нет. Честное благородное слово.
— И книги, значит, не пропадают?
— Пропадали. Но клуб «Гласность» к пропаже отношения не имеет.
— А вы лично?
— К сожалению, имею. — Вехов виновато вздохнул.
— Можно поподробнее?
— «А из зала мне кричат: “Давай подробности!”», — кивнул правдолюб. — В библиотеке отличный КОД…
— Какой кот?
— КОД. Фонд книг ограниченного доступа.
— Ах, ну да…
— До революции Тихославль славился своей публичкой. Благотворители денег не жалели, особенно купец Стожаров. Он еще и богадельню построил. Там теперь санэпидемстанция. Маркел Сысоев его лично расстрелял у Троицы. Был у нас такой чекист с горячей головой. Чуть что — за наган, как Нагульнов.
— Слышал.
— Библиотека у нас роскошная! При большевиках сюда книги телегами свозили из усадеб. Мужики-то себе в избы мебель тащили, посуду, картинки с голыми нимфами. Рояль могли упереть для форсу, а книги без надобности, разве на самокрутки. Странный у нас народ, не находите?
— Нахожу.
— Потом, когда по списку Крупской фонды чистили, вредные издания здесь почему-то не уничтожили, а в подвале сложили. Предрик у нас был добрый: храмы не взрывал, книги не жёг, людей из ГПУ вытаскивал, семенной хлеб крестьянам возвращал, если чоновцы лишнее отбирали…
— Это тот, который со Сталиным под Царицыном воевал?
— И это уже знаете? Профессионал! Он и от Маркела город избавил. Пробился на прием к Сталину, вернулся, вызвал Сысоя в райком и при всех партбилет отобрал. А без партбилета долго тогда не жили, как без печени. Ну не важно…
— А что же важно?
— Важно то, что у нас в Тихославле есть такие книжки, каких и в Ленинке не добудешь. Улавливаете?
— Нет, пока не улавливаю.
— Ладно, придется со всеми подробностями. У моего брата доступ к ксероксу. По работе. Не знаю, как у вас в Москве, а у нас эта штука еще в редкость. Я ему отдаю книги, а он, когда ночью дежурит, копирует. Брат ксерит, а я отвожу… Нет, сначала переплетаю. Люблю это дело. Переплести редкую книгу такое же удовольствие, как одеть красивую женщину…
— Да вы поэт! А книги, значит, из КОДа берете?
— Да. Понемногу. На одну ночь. Утром они уже на полке стоят.
— Для себя ксерите?
— Не совсем. Излишки сдаю народу. В Москве, на Кузнецком. Езжу в первопрестольную пару раз в месяц.
— И хорошо идут?
— Неплохо. «Заратустру» недавно за пятнашку сдал. Ренан по десятке ушел. Арцыбашева хорошо берут, но особенно Каменского…
— Каменского? Странно. Его же в «Библиотеке поэта» недавно издали.
— Нет, не Василия, не футуриста, а Анатолия Каменского. Декадентская эротика. Наш ответ Мопассану и Ренье.
— Вы что заканчивали?
— Ромгерм. В Ярославле.
— А кем работаете?
— Дворником, разумеется. Очень удобно: утром метлой помахал — и весь день свободен. Служебную комнату дали. Там и переплетаю. А что еще нормальному человеку в этой стране делать, чтобы не замараться? Только и остается — книжки читать да девушек любить.
— Но ведь книги-то пропали?
— Накладка вышла. Брат пакет в автобусе забыл.
— Как забыл?
— Просто. А как Достоевский «Бедных людей» у извозчика забыл?
— Ему, кажется, вернули?
— А Косте не вернули.
— Ну и повинитесь, заплатите штраф. Книги-то, небось, копейки, по инвентаризации, стоят?
— Не могу. Одного человечка сильно подставлю.
— …который вам эти книги выносит из фонда?
— Да. А Болотина и посадить может. Самодержица! Раздавит девчонку и не заметит.
— Какую девчонку?
Вехов вздохнул, нагнулся, поднял с дорожки камешек, шагнул к высокому библиотечному окну и привычно бросил в стекло. Вернувшись, он улыбнулся и по-ленински прокартавил:
— Конспир-рация, батенька. А вот объясните мне, Геннадий Павлович! Я вчера вас внимательно слушал, и вы показались мне человеком мыслящим…
— Спасибо.
— Не за что. Скажите, может быть, это все напрасно?
— Что именно?
— Ну, эти… перестройка, гласность, ускорение… больше социализма… вперед к Ленину… цивилизованные кооператоры…
— А вы разве не хотите, чтобы все изменилось?
— Это возможно?
— Думаю, возможно, если не отступим и не оступимся, — Скорятин ввернул любимую фразочку Исидора и брезгливо поежился.
«Бриковщина какая-то!»
— А вот я думаю: нет! — повертел головой книгоноша. — Можно, наверное, завалить прилавки колбасой и винищем, как в вашем Париже, набить полки книгами, а вешалки — тряпьем. Но куда вы денете этот убогий народ с его рабской историей? Сначала под варягами кряхтели, потом — под хазарами, триста лет — под татарами. Едва выкарабкались из-под чужой задницы, пожалуйте в крепостные! И еще триста лет. Царь-батюшка освободил, так ему на радостях бомбой ноги оторвали и под коммуняк легли. Свобода нашему народу-уроду нужна только для того, чтобы не мешали выбрать новое ярмо. Понимаете, у нас обмен веществ рабский. Мы на воле чувствуем себя, как цепной пес без будки…