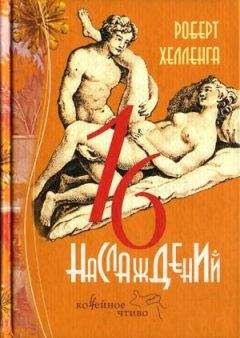Пока он размышляет об этом, он также – на другом уровне – репетирует свою речь, те вещи, о которых должен сказать Марго до конца вечера.
Марго, это был самый тяжелый день в моей жизни. Я был унижен судом, который воздвиг на моем пути еще одну преграду, я был унижен своей неспособностью заняться с тобой любовью, я был унижен своим старым «дружком» Вольмаро Мартелли.
И, что еще хуже, я собирался – как ты уже, наверное, догадалась – обмануть тебя. Я вошел в сговор с Вольмаро. Аретино стоит намного больше, нежели восемь миллионов или двенадцать миллионов. Мы планировали разброшюровать книгу и продать гравюры по отдельности. Я не буду пытаться искать себе оправдания, но вот что скажу: я думал, что без денег никогда не смогу попросить тебя стать моей женой. Священный высший суд Римско-католической церкви работает очень медленно, и требуются огромные деньги, чтобы вообще он продолжал что-нибудь делать. Приходится постоянно кормить его, так же, как мне приходится сейчас кормить этот электросчетчик. Мои собственные вложения оказались неудачными, и, хотя жена могла бы легко оплатить все расходы, она тоже хочет унизить меня. Но теперь я вижу, что все эти вещи не имеют значения. Значение имеет только то, что я люблю тебя, и я надеюсь, ты тоже любишь меня. Если можешь простить меня…
Свет гаснет, и он вставляет еще одну столировую купюру, но Марго уже насмотрелась.
– Мы с мамой приходили сюда, – говорит она, – с ее студентами. Все возвращается ко мне. Но единственное, что я помню, – это ноги. Ноги великолепные.
– У Караваджо был свой кумир, ты, наверное, знаешь.
– Нет, в самом деле?
Доктор смеется.
Она берет его за руку.
– Скажи что-нибудь умное, – дразнит она его.
– Я не чувствую себя умным, – говорит он. – Ты действительно хочешь пойти в этот китайский ресторан? Я не уверен, что смогу это вынести. Эти пластиковые подобия тарелок выглядят не очень-то соблазнительно. И названия: «Цветение сливы и снег, сражающийся с весной»… Что это за названия?
– Ты такой провинциальный, я не могу в это поверить. Твое представление об иностранной еде напоминает мне Неаполь.
В ресторане много гладких поверхностей, красных и черных, лакированных и блестящих. Вместо хлеба и вина официант-китаец (который, к большому удивлению доктора, говорит по-итальянски) приносит чайник и две маленькие чашки, чуть побольше чашек для эспрессо и толще.
Марго наливает себе чай Сандро отказывается.
– Не могу пить чай, – говорит он. – Это все, что нам давали британцы в лагере. Чай, чай, чай. Утром, днем, вечером. После обеда тоже. Они с ума сходили по чаю. Это была единственная вещь, которой всегда было достаточно.
– Это зеленый чай, – говорит она. – Совсем не то же самое. Ты бы мог, по крайней мере, попробовать.
– Марго, – вздыхает он, – это был самый трудный день в моей жизни…
– Не глупи, Ты выживешь.
Она заказывает для них обоих из меню, напечатанного на китайском, итальянском, английском, немецком и французском языках (в таком порядке, и каждое блюдо пронумеровано), и официант приносит им hacchette, палочки, которые китайцы используют вместо ножей и вилок. Доктор не знает, как они называются. При помощи hacchette, как он думает, дирижер управляет оркестром, барабанщик стучит по барабану, волшебник достает из шляпы голубей, лозоходец отыскивает подземные источники воды, учитель наказывает непослушного ученика.
– Палочки для еды, – говорит она по-английски, – держа в руке bacchetta.
– Тебе понравился Караваджо? – спрашивает он, возвращая разговор на знакомую почву.
– Очень. Ты заметил, как жестокость убийства смягчена за счет изящной кривой линии в форме буквы «s», которая проходит через тело ангела, далее вниз вдоль его руки к линии ладони и затем сквозь вытянутую руку святого Матфея?
– Красиво. – Он нахмуривается, задумывавшись, а потом смеется. – Ты уловила самую суть картины. – Продолжай в том же духе, и ты скоро станешь профессором в Татти.
– Знаешь, что я на самом деле заметила?
– Что?
– Матфей на алтаре выглядит совсем как ты, не считая бороды. И нимба!
– Определенно не из-за нимба, – он снова смеется. – Вообще-то эта картина всегда казалась мне довольно податливой, в отличие от других картин. Это не оригинал, надеюсь, ты знаешь. Я имею в виду, что Караваджо первоначально планировал для алтаря другую картину. Но та была отвергнута.
– Почему?
– Слишком скандальная. Апостол Матфей на ней был изображен уродливым стариком – Караваджо не боялся уродства. Его святой Матфей выглядел разнорабочим, который даже не знает, как правильно держать перо. Ангел вынужден был наклониться к нему и водить его рукой. И ангел был весьма привлекательным – определенно, ангел женского пола.
– И где теперь оригинал?
– Его тут же купил маркиз Джустиани, и картина оставалась на вилле Джустиани до тех пор, пока во время войны ее не украли немцы. Я не знаю всей истории, но странствия картины закончились в Берлине, где она и была уничтожена в сорок пятом году.
– Ты ее видел?
– Я ее видел, когда она еще была на вилле Джустиани.
Официант приносит два блюда в форме сосисок, по всей видимости, сильно прожаренных, на маленьких тарелках. На каждой тарелке стоит чашечка с соусами – горчицей (вероятно) и чем-то оранжевым и прозрачным, похожим на абрикосовый мармелад.
– Что это такое?
– Это яичные рулеты.
– Яичные рулеты? Как странно.
– А это не горчица, а утиный соус.
При помощи двух bacchette Марго поднимает рулет (целиком), окунает его в оба соуса, подносит к губам и откусывает кусочек. Доктор не знает, с чего начинать.
– Яичные рулеты трудно есть таким способом, – говорит она, – остальные блюда будут попроще. Но попробуй это. Смотри: укладываешь одну палочку между большим и средним пальцами, вот так. – Она показывает. – И упираешь ее сильно в четвертый палец. – Она учит его, протягивая руки над столом, и помогая ему приноровиться держать bacchette в руке. – А вторую ты просто держишь как карандаш, видишь?
Она вытягивает руку, держа две bacchette, щелкая их кончиками вместе, как щупальцами краба. Он поднимает вторую bacchette, пытаясь удержать ее как карандаш. Он сжимает их, как только может, но кончики bacchette торчат в разные стороны, бесконтрольно, как: усики насекомого. Еще раз она протягивает к нему над столом руки, чтобы помочь ему. И в то время, как она это делает, он вдруг видит себя в образе святого Матфея с оригинала Караваджо – не благородного патриарха, а неуклюжего старика, который не знает, как правильно держать перо, а ее – в образе ангела, посланного помочь ему, вести его, показывать ему дорогу. Именно так, должно быть, он выглядел в глазах остальных посетителей ресторана. Он смотрит по сторонам. Никто не обращает на него ни малейшего внимания, и тем не менее невозможно выразить то, что ему хотелось сказать в этих обстоятельствах.
– Ты знаешь, – говорит он. – Караваджо был единственным, кто оказался достаточно сильным, чтобы противостоять традиции изображать все библейские фигуры одинаково красивыми и привлекательными.
– А Рембрандт?
– Да, конечно же, и Рембрандт, но позже.
Всегда он говорил себе, что пропасть между ними может быть преодолена. Но теперь его инстинкт – тот самый инстинкт счастья, всегда управлявший его действиями, – посылает ему резкий и четкий сигнал, сигнал, который как будто исходит у него изнутри.
Он отталкивает ее руки и кладет bacchette на стол рядом с тарелкой. Он ест яичный рулет, а затем и всю остальную еду – тонкие полоски различного мяса, перемешанного с овощами, – при помощи ножа и вилки. Утиный соус тошнотворно сладкий, горчица слишком острая; такие сочетания соленого и сладкого оскорбительны для его итальянского вкуса; соевый соус ударяет по его чувствам. Он испытывает облегчение, когда еда заканчивается и официант приносит каждому из них маленькую тарелочку с оранжевым шербетом и маленьким переплетенным hiscotto. Вкус шербета на языке прохладный и освежающий.
Сандро пятьдесят два года, в сентябре будет пятьдесят три. Ей двадцать девять. Он родился в декабре, она в мае. Она влюблена в Италию, но так же, как и множество других американок. Он видел это слишком часто. Она влюбляется в Италию, выходит замуж за итальянца, остается здесь жить. В течение шести или семи лет все замечательно, а потом чувство новизны исчезает. Она начинает скучать по дому. У нее ребенок, и она осознает, что у ребенка не будет американского детства – ничего из тех важных событий, какие она с удовольствием вспоминает. Американское Рождество, День благодарения, День Независимости – он не в состоянии перечислить их все. Более того, не будет достаточно денег. И как сурово она обошлась с Вольмаро! Маленькие hiscotto называются печеньем, предсказывающим судьбу, потому что в каждом из них находится пророчество, предупреждение. Он разламывает печенье и читает свое предсказание с каким-то трепетом – не потому, что суеверен, а потому, что, когда он задумывается о таких вещах, даже малейший ветерок может заставить его неожиданно изменить курс. Сначала каждый из них читает свое предсказание молча, а потом вслух.