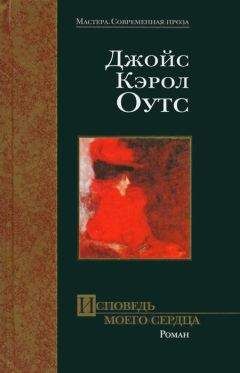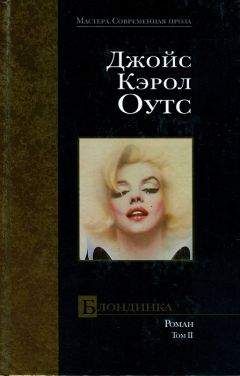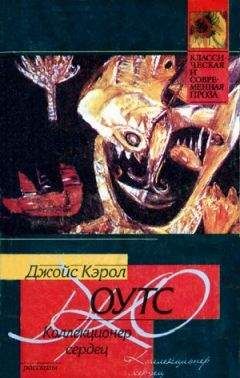— Ибо это позор, — заявил лорд Шоу жадно слушавшей его аудитории, — что люди, которые отдают все свои силы — а нередко и жизни — тяжелой работе в тюрьмах, игнорируются обществом и ставятся чуть ли не на одну доску с заключенными, которым они «служат».
Лорд Шоу был также убежден (и это особо обратило на себя внимание мэра Гейнора и его помощников), что и выборные, и назначаемые чиновники должны получать плату, соотносимую с самыми высокооплачиваемыми представителями бизнеса, ибо тогда у них будет стимул оставаться в политике и служить общественному благу, а не искать более доходного поля деятельности. А что самое важное — они будут застрахованы от взяточничества и коррупции, этого бича («не знаю, как в Америке, но в Англии-то уж точно») всех властей.
Спрошенный, откуда брать деньги на столь щедрые жалованья, лорд Шоу, не задумываясь, ответил: из налогов.
Соединенные Штаты, в конце концов, — богатейшая страна мира, богатые здесь — богаты экстравагантно. Читал же лорд Шоу — с отвращением, — что в Филадельфии существует огромное поместье, обслуживаемое девятью десятками слуг, хозяин которого обладает несметными богатствами — одно серебряное блюдо в его поместье стоит пять миллионов долларов; и что в доме Вандербильтов на Пятой авеню собраны предметы искусства, которые оцениваются в сто миллионов долларов! Богатых граждан Америки следует обложить безжалостно высокими налогами, и сделать это нужно как можно скорее, пока народ не сверг правительство; а распределять сборы от налогов необходимо между теми, кто хорошо проявил себя на поприще служения обществу.
— Берите у богатых и отдавайте политикам, ибо они и только они принимают близко к сердцу общественное благосостояние, — говорил лорд Шоу, и его английский акцент становился все очевиднее, а на щеках расцветал румянец негодования.
Удивительно ли, что этот английский джентльмен немедленно снискал восхищение своих хозяев, был объявлен истинным аристократом, презирающим материальные блага, чуть ли не причислен к лику святых, и перед ним открылись двери всех тюрем и прочих исправительных заведений, какие он только пожелал посетить в течение своего трехнедельного визита в страну?
Программа пребывания лорда Шоу была приятно насыщенной.
На острове Блэквелла ему и его молодому слуге-индусу позволили посетить отделение для душевнобольных тюремной больницы и побеседовать с теми пациентами, безопасность общения с которыми была гарантирована; в экспериментальной тюрьме «Черри-Хилл» им предоставили исключительную возможность поговорить с несколькими осужденными на длительные сроки заключенными в их одиночных камерах наедине, без сопровождения бейлифа или надзирателя. В Трентоне, в «Стене», признанной самым мрачным исправительным заведением штата, они были с исключительным радушием приняты начальником тюрьмы, наслышанным о радикальных реформистских идеях лорда Шоу и пожелавшим непременно пригласить его с секретарем-камердинером к себе на ужин, чтобы обсудить интересующие их всех вопросы в более приватной обстановке. (Потому что к тому времени, к середине мая, стало известно, что лорд Шоу намеревается написать серию статей о своем визите в Америку, обратив особое внимание на те тюрьмы и тех представителей тюремных администраций, которые в первую очередь заслуживают финансовых пожертвований.)
Казни в трентонской тюрьме проводились регулярно, и лорду Шоу охотно позволили познакомиться с палачом, тюремным врачом, тюремным священником и тому подобными служащими; осмотреть виселицу и сколь угодно долго беседовать с приговоренными к смерти несчастными, коих в настоящий момент здесь было семь человек в возрасте приблизительно от двадцати пяти до шестидесяти двух лет. Лорду Шоу сообщили, что следующая казнь состоится 29 мая: будет повешен некто Кристофер Шенлихт, осужденный за убийство своей любовницы.
Некоторые смертники, как выяснилось, были совершенно безумны, что вызвало яростный протест со стороны лорда Шоу, поскольку он считал варварством казнить сумасшедшего. Однако начальник тюрьмы ответил просто: в момент совершения преступления эти люди не были безумны — они сошли с ума потом.
Что касается юноши Кристофера Шенлихта, лорд Шоу нерешительно поинтересовался:
— Выказывает ли парень признаки раскаяния?
Начальник тюрьмы ответил:
— Ни малейших, сэр. И никакого страха перед тем, что ждет его впереди, в петле.
— А вполне ли он дееспособен? — озабоченно спросил лорд Шоу, глядя на заключенного сквозь решетку, на что начальник тюрьмы, жестоко рассмеявшись и не принимая во внимание тот факт, что заключенный слышит его, заявил:
— Дееспособен настолько, насколько ему будет нужно через двенадцать дней.
Из семи приговоренных к смерти узников лорд Шоу выбрал именно Шенлихта, чтобы побеседовать с ним.
Не возражает ли заключенный?
Нет, не возражает.
Не кажется ли, что заключенный хочет этого?
Нет, не кажется.
Итак, без лишних церемоний лорд Харбертон Шоу и его секретарь-индус были препровождены в промозглую одиночку молодого человека, и тяжелую дверь заперли за ними; и вот — так неожиданно, так легко — они наконец оказались наедине… Терстон Лихт, его отец и его брат Элайша. Несколько показавшихся нескончаемо долгими минут, пока не стихли шаги медленно удаляющегося охранника, они стояли молча.
Камеры в этой части тюрьмы располагались на четырех уровнях, одна над другой; потолок каждой из них составляли две большие тяжелые каменные плиты, одновременно являвшиеся полом верхней камеры; слышимости между соседними помещениями почти не было, разве что звук мог слабо проходить по сточной трубе, которая «прошивала» насквозь камеры всех уровней, однако даже при этом Абрахам Лихт, предостерегающе приложив палец к губам, прошептал:
— Терстон, не говори ни слова, не двигайся.
В изумлении Терстон переводил взгляд с седовласого лорда Шоу на Элайшу в тюрбане и обратно на лорда, словно человек, который силится стряхнуть сон и не может.
За время своего заключения несчастный Терстон исхудал и ссутулился; кожа его приобрела болезненно-желтый оттенок, а волосы — некогда такие густые — поредели, засалились и стали свинцово-серыми. И глаза! Это были глаза не молодого двадцатипятилетнего человека, а ввалившиеся, слезящиеся, полуприкрытые опущенными верхними веками глаза старика.
Когда он пытался говорить, губы его двигались беззвучно.
Неужели он и впрямь видел то, что ему казалось?
Или перед ним стояли призраки: Абрахам Лихт в обличье пожилого англичанина со слоем грима на щеках и кустистыми белыми бровями чуть измененной формы; и Элайша с подведенными сурьмой глазами, оливково-коричневатой кожей и в ослепительно белом тюрбане на голове? Он тоже, предостерегая, прижал к губам палец, чтобы Терстон не произнес ни слова.
Терстон глядел на них во все глаза. Стоял, словно пораженный молнией, хотя, наверное, при их чудесном появлении ему инстинктивно хотелось со стоном броситься в отцовские объятия или прижаться к влажной глухой стене за спиной. Пожилой английский лорд обратился к нему официальным отрывистым тоном, протянув приговоренному смертнику почти не дрогнувшую руку для рукопожатия:
— Мистер Шенлихт, благодарю, что согласились побеседовать с нами. Мы прибыли, чтобы обсудить с тобой, сынок, вопрос чрезвычайной важности — вопрос жизни и смерти. Твоей.
I
Ни Абрахам Лихт, ни Элайша не могли понять, не слишком ли поздно они пришли, чтобы спасти его? Неужели он уже пропал, разум его повредился? Потому что в течение беседы, продолжавшейся более часа в этой мерзкой, тускло освещенной камере, они тщетно пытались достучаться до Терстона, который больше не был Терстоном; как домашний пес, раненный или испуганный до полусмерти, перестает быть собакой, а становится одичавшим животным с изменившимися инстинктами, изменившимся взглядом, так и Терстон перестал быть собой — его глаза странно расширились, зрачки стали почти черными. Терстон, или это уже Шенлихт, человек, приговоренный к смерти, человек, смирившийся со смертью, лихорадочно скребет черными поломанными ногтями шею и руки, по которым ползают видимые глазу вши, дыхание его зловонно, от давно не мытого тела исходит смрад, такой же сильный, как от сточной трубы, по которой текут экскременты.
Седовласый англичанин терпеливо спрашивает: сынок, ты понимаешь?
Ты понимаешь?
Последуешь ли ты моему плану?
Я приказываю тебе, сын, последовать моему плану.
(Мохнатое существо со свирепо ощетинившимися усами поспешно прошмыгивает вдоль липкой от слизи стены.)